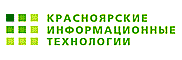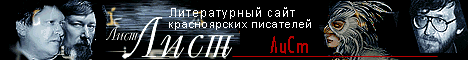| Роман СОЛНЦЕВ СТРАНА АДРАЙ
История одной семьи повесть "За этот ад,
За этот бред
Пошли мне сад
На старость лет."
Марина ЦВЕТАЕВА Пролог первый. ГЕРЦОГ АЛЬБА (80-е годы)
"Это был самый юный мужчина из нашего рода..."
Из разговоров у костра на перекрестке дорог. 1. ТЕЛЕГРАММА В дверь позвонили - это мне с мороза румяная тетя с сумкой принесла телеграмму.
- Спасибо!
Батя чудит? Снова требует вернуться в родные края, в деревню, учить детей в школе географии? Старшая сестра зовет в закрытый атомный город с романтическим названием Кедроград - обещает найти хорошую работу? Я ей как-то в письме намекнул, что у меня трудности...
"ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОЕЗДОМ ЦЕЛУЮ НИНА". Ого! Телеграмма была настолько неожиданной, что я аккуратно сложил ее пополам, прошел к столу, закурил и затем снова развернул - нет, точно, не приснилось.
Смысл текста, конечно, сразу дошел до меня, но я делал вид, что ничего еще не ясно, может, вовсе и не мне предназначена строчка, состоящая вся из заглавных букв. Интересно, а если принести человеку весть, напечатанную маленькими буковками - поверит? Наверное, нет. Даже если там про пожар, про смерть, про свадьбу. А заглавными - другое дело. ТАК СЕРЬЕЗНЕЙ. Можно, например, прислать заглавными буквами: "РАЗБИЛ ГРАНЕНЫЙ СТАКАН..."
Впрочем, уже были знаменитые "ГРУЗИТЕ СЕЛЬДИ БОЧКАХ БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ"...
Ну-ну, думал я. Значит, не забываем друг друга, в гости заглядываем, если по пути. Человеку кажется: он скрылся, оброс длинной бородой, спрятался за частокол пустых бутылок... можно и в психушке полежать (есть у меня приятель-врач) - норы у каждого свои... Но вот находят же! И вспоминается давнее. Срабатывает задавленный много лет назад асфальтовым катком будильник.
А ведь после того, что со мною произошло, мне бы лучше одному долго-долго пребывать в нетях...
Но что же, приезжай, Нина. Сегодня воскресенье. Значит, сейчас вот и появишься, если рейс не отменили. В последние дни, я слышал, Москва из-за морозного тумана выпускала, но не принимала самолеты. А ты же поездом не поедешь, ты любишь, когда мимо бегут, как бараны, облака, любишь улыбки стюардов и блеск завернутых в целлофан вилок-ножичков. Тронешь -трещит!
Надо бы, что ли, убраться в квартире? Коричневая лакированная крышка приемника в пуху. Помыл полы. Потом окатился под ледяным душем (горячей воды опять нет), зачесал волосы так, эдак, надел шелковую, красного цвета сорочку, отпер дверь и лег на тахту в позе крайней задумчивости. Именно в эту минуту и лучше бы явиться гостье...
Она, конечно, с Кириллом. "Кирилл у Карла украл коралл." А если одна? В уральскую стужу мне бы, лодырю, надо встретить ее в аэропорту...
Нерешительно поднялся. Нет, она с Кириллом. Мне писали: теперь они - неразлучная пара, как сульфиды и золото (это у нас, в геологии) или протон и электрон ( так у них, в физике)...
Внизу - что это?.. дверь подъезда ухнула... и еще ухает... Ветер, ледяной хиус клокочет... Не вставая с лежанки, я мрачно усмехнулся. Так всегда я делал в ранней юности: картинно опершись на локоть, устремив взгляд за окно, и чтобы при этом на лицо легла тень значительности. Вот в такой момент пусть входит и видит острые скулы и горестные, глубокие глаза...
Ах, недавнему студенту простительно - ведь и взрослые люди играют в подобную многозначительность, ждут, когда их кто-нибудь застанет в картинной позе. И не часто дожидаются - лицо устает держать несвойственное выражение, к человеку возвращается обличие простолюдина... но вот тут-то и входит Она, прекрасная Незнакомка, о которой мечтал, может быть, всю жизнь. Но увы, увы!..
Что в данном случае могло бы меня извинить? Не о Нине я мечтал в свои двадцать пять с хвостиком, тоска, вызванная неразделенною ( не раз деленною?) любовью, угнетала душу... А помимо этого мучило безверие: мы вышли из "Альма матер" на белый свет, когда в Кремле, как доминошные костяшки на столе, начали валиться друг за дружкой генеральные начальники... очень хотелось надеяться, что весь это бред вот-вот кончится, но он длился, как не помню какая симфония Гайдна с множеством торжественных финалов...
А тут еще беда, которая стряслась со мной и с моим лучшим другом. И теперь-то мне вовсе нечем хвастаться, и лучше бы осесть (олечься?) в уединении, безо всякой многозначительной тени на морде. Еще с год, а то и два-три. И лишь только потом, может быть, на что-то решиться - или в геологию вернуться, или попытаться найти другую дорогу в жизни...
...................................................................................................................................
Нина не прилетела. Странно. Но не сидеть же мне дома, докуривая третью пачку сигарет, как огнедышащему дракону на цепи?
Еще не сгустились вечерние сумерки, шар пространства вдали, над медными на закате горами, принялся тлеть, как в огромной трубе неон, я нахлобучил шапку, поднял воротник пальто и ушел в рощу.
Деревья в слипшемся затвердевшем инее кажутся фарфоровыми, неживыми. Снег скрипит, особенно когда поворачиваешь, поэтому иди, человек, только прямо, ха-ха. В лесу ни птицы... лишь красный надувшийся, как член Политбюро, снегирь мелькнул, уронив крохотный обвал снега... На всякий случай вернуться домой? Вдруг ждет возле двери, в промороженном подъезде?
Вернулся - Нины нет. Но она будет, она никогда просто так не дает телеграмм и даже записок просто так не пишет. Значит, приезжает, приезжает моя подружка по студенческим временам и жена очень делового человека. Но были-то мы совсем другие...
Милая Нинка, Нинка-забияка, смуглая и свеженькая, с блестящими темными глазками, с блестящими черными волосами, с розовыми короткими ногтями - встань передо мной, как Лист перед Шостаковичем ( прости мои глупые шутки!). И расскажи, что нового в мире. Доложи обстановку у Нели, у божества моего, доложи, разведчица, как бывало когда-то...
- Солнышко,- скажет сейчас Нина (а она всех так зовет - "солнышко"), - жизнь убегает... Давно ли термех сдавали? А-а-а... - Причем "а-а"а" произнесет чисто по-бабьи, растягивая, на два ударения, точно качая зыбку, и это будет означать: "Вот видишь... А ты не верил..." - Или на геофаке термеха не было? Солнышко,- спросит она, добрая, горячая, - а начерталку вы сдавали?
- Начерталку?- воскликну я. - О, циркули! О, рейсфедеры! В них набирается тушь. На тонких спицах - утолщения, как весенние почки!
- А-а,- продолжит, качая зыбку, Нина.
Потом она мне, конечно, станет рассказывать про мужа Кирилла, которого я прекрасно помню, и я начну медленно сатанеть от скуки. Чтобы не раздражаться, примусь за дело - заваривать чай. У меня индийский, второй сорт. Он острее, пахучее первого сорта, пахнет сеном, чуть подсохшим через два-три часа после косьбы, в нем возбуждающие запахи клубники, истлевшей на солнце, уже темно-коричневой.
Да, есть меня еще проигрыватель. Мы будем слушать Баха. Сейчас, говорят, Бах опять моден? Расскажи мне о Неле, Нина. Неля любила Баха... а также песню по Бухенвальд... когда я к ней прибегал с бухты-барахты (снова прости мне мой глупый юмор!)... Или все же сначала давай о себе, а про нее - потом.
А потом - я. Как изнывал от счастья и одиночества на горбатых улицах нашего студенческого города, томился на койке в общежитии, хрустел пальцами, умирал, гордый и непонятный, и все-таки поднимался, читал сорванным голосом с эстрады в университете Лермонтова ("Знай, мы чужие с этих пор!.."), и тень сугубой значительности лежала на моем курносом лице...
"Дурак!" - смеюсь над прежним собой. Бегу к двери и открываю. Потому что в дверной звонок опять позвонили. 2. Н И Н А - Ура! - кричит она.
Она в роскошной белой, как сахар, шубке, ее мордашка с темными усиками как всегда загадочная, важная. Ну, мать, даешь, думаю я. По самые брови пышная песцовая шапка, начесанная так, что напоминает театральный факел со сходящимися и закрученными по часовой стрелке языками пламени.
- Нинон!.. - шепчу я. - Здравствуй.
Мы целуемся - она тянется к губам, а я к щекам - и Нинка хохочет.
- Ты чего?- несколько теряюсь я.
- Все так же целуешься? Ты все тот же, солнышко! Ты правда все тот же?
Я краснею, помогаю ей снять шубу. Потом мы садимся за стол, друг против друга. Нинка обладает способностью преданно смотреть в глаза собеседнику, смоляные ее очи, подведенные черным, сияют, словно нет на земле для нее более родного человека, чем сидящий напротив. Я, привыкающий в последнее время к холоду отношений между людьми, смущаюсь, начинаю подмигивать Нинке, пытаясь как-то отделаться от неловкости, мну сигарету. Тогда Нинка, чуть приблизившись, начинает разглядывать мое лицо: губы, скулы, брови. Я встаю и принимаюсь маршировать по комнате.
- Ну, как дела, милая? - спрашиваю отрывисто. - Какими судьбами? Как тогда? - через силу (смелей, мужчина!) напоминаю о прежнем нашем нечаянном с нею свидании в таежном городе Томске. Туда я прилетел на преддипломную практику, а она - к родителям. Нашла меня в камералке, и что-то с нами случилось - как солнечный удар... три дня жили в общежитии геологов, как муж-жена... Было дело, было. Как я понял потом, она собиралась замуж.
- Нет, солнышко, - смеется, встает и обнимает меня со спины. - Командировка. Нынче мне лететь в Северск. Будем заключать договор.
- С кем?
- С газовиками... насчет переключении потоков... и насчет вахтовых рабочих из Казани и Баку... ну, тебе это скучно.
Я оборачиваюсь.
- Мать, да там же - Димка! Если что, поможет... он там всех знает!
- Белокуров?.. Только удобно ли мне?
- Да ну, пустое! Ты-то при чем? Кирилл дома, в Казани?
- Нет. Он потом... - Не договаривает. Интимно улыбнувшись, оглядывает мою берлогу. - Хорошо тебе, солнышко. Один. Лес рядом.
Она отошла к окну, принялась смотреть влажными счастливыми глазами на соседний дом. Он ей тоже нравился. Ей нравилось почти все.
- Ну, а ты как? Много у тебя тут бывает красивых девушек?
Я не ответил. Вдруг подумал о Димке. Черт возьми, я его не видел два с лишним года. С тех самых пор, как вся эта история с новым месторождением взбудоражила страну. Но нам-то с ним лучше не встречаться. Пусть Нина разыщет его. Хотя Димке тяжело дастся эта встреча...
- Ты что-то бледный, Алик.
- Поговори с ним. Чтобы не спился.
- Алик! - она захлопала ресницами. - А ты разве со мной не полетишь?! - Нина была искренне поражена. - Вот так летчик, в погреб налетчик! Это моя тетка так любит выражаться.
- А мой дед Иван Сирота говорит: моряк, об пол бряк! - Я попытался увести разговор в сторону.
- А почему сирота?
- А это такая у него фамилия. - Сам подумал: "Лететь в Северск?! Нет."
- Что, плохо себя чувствуешь? Много пьешь?
- Да почему? - Хотя много, много я пил в последнее время. И денег, можно сказать, не было, но помаленьку и часто цедил в одиночестве всякую дрянь, скуля и лелея свою тоску, свой проигрыш в жизни. Вдруг вспомнилось, как отец однажды мне прочел неизвестные, пугающие стихи Тютчева ( я знал только про грозу в начале мая):
Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них!
Прочел и, странно захохотав, добавил: а у нас на улице в луже России отразится только морда пьяницы...
- Ты хотешь признаться в каких-то своих страданиях? - радостно засияла глазами Нина. Она неверно поняла мое затянувшееся молчание. И я торопливо как бы пояснил:
- Сказали, на Севере туман.
- Вот как? Тогда я у тебя тут побуду. - Она села, посияла глазами. - Хотя время - деньги. Я имею в виду - государственные.
- Одну тебя смогу отправить, - пробормотал я. - С вертолетчиками. Они летают в любую погоду.
- Твое мнение для них закон? - И не дожидаясь никаких моих слов, ни хвастливых, ни нарочито трагических, Нина засмеялась, положила мне ладошку на голову, а другой рукой прижала к себе, горячая и чужая. 3. НАШ ЗАГОВОР Зачем ты спрашиваешь о моей жизни? Неужели ты забыла - играл Рихтер.
Рассказывали, вчера, сразу после самолета, он взошел на сцену местного театра оперы и балета, тронул клавиши и, угрюмо поклонившись, мрачно удалился. Фальшивила струна... Позор!
В университетском комитете ВЛКСМ шептались, что музыкант остался чрезвычайно доволен нашим скромным инструментом, он сегодня в ударе, он исполнит все, что попросят студенты...
Занесенное к потолку черное крыло рояля отсвечивало. Мы сидели в зале, рядком, вся наша комната: Димка, Киря, Борька и я. Киря слушал внимательно, как на собрании, время от времени кивая. (А может, это сейчас мне так кажется?). Борька чесал ногу, сунув руку глубоко в карман. Димка скрежетал зубами, отмечая самые сильные места сонаты. А я картинно полуотвернулся, положив левый локоть на спинку своего стула.
И вышло так, что ласковая мелодия резко сменилась мрачным, зловещим нашествием мучительно сгруппировавшихся нот, я вздрогнул, рука дернулась, и я, испуганно обернувшись, увидел возле своего локтя досадливо хмурящееся девичье лицо. Покраснев, я убрал руку:
- Извините.
Кто-то из сидящих сзади захихикал.
- Я не задел?.. - потерянно спросил я. - То есть... Я не нарочно.
- Тиш-ше...- прошептала девушка. Она была чуть скуласта, светлые невидящие глаза ее умоляли меня замолчать.
Объявили перерыв. Мы с ребятами пошли делиться эмоциями - курить. Мстительно поглядывая на свою левую, отяжелевшую руку, я затягивался до всхлипа. Решил найти девушку и снова извиниться. Она со своей черненькой подружкой стояла возле стенда с вырезанными из журналов иллюстрациями, где были изображены Бетховен, Моцарт, Чайковский.
- Девушка...- сказал я. - Правда, я хочу извиниться. Это прямо как у Чехова... "Смерть чиновника"... Как-то так получилось...
- Пожалуйста,- ответила она. - Я вовсе не сержусь.
- Точно?
- Точно-точно. И не умирайте. Вы же не чиновник?
Я постоял и, не зная, что еще сказать, начал кружить рядом. Подружки шептались. Мне всегда не по себе, когда люди неподалеку от меня понимающе пересмеиваются, негромко о чем-то говорят. Мне кажется, они - обо мне.
Сгорая от любопытства, я бродил по коридору, не теряя из виду Прекрасную незнакомку и ее подругу, и так вышло, что слушать второе отделение концерта мы сели рядом. Я краем глаза смотрел на Нелю. Неля жила музыкой, но незаметно для себя - движением бровей ли, шевелением пальчиков - протестовала, когда музыка становилась мрачной, переходила некий предел. А надо сказать, Рихтер работал в том концерте очень жестко, тяжело... он, как шахтер в антрацитовом забое, врубался в темное, добывал свет...
Свои тонкие руки, еще ничего не сделавшие в жизни, я теперь держал, обняв себя, крепко прислоненными к телу... После концерта в раздевалке курил и снова маялся возле Нели... Хотелось сказать ей что-нибудь на прощание, но при друзьях не решался, да и повода не было...
Я покашлял, размотал и снова повязал пестренькое кашне. И карие нерусские глаза увидели меня.
- Ничего не говорите, - сказала она. - Я знаю.
Я растерялся, но она и сама больше ничего не сказала, тут ее под руку подхватила подружка, смуглая, с яркими щеками, и девчонки убежали.
Толпа в вестибюле зашумела, закричала - это вышел великий музыкант, желтолицый, замкнутый, истинный немец.
На улице было зябко. Матовый март колдовал фонарями и звездами. Меня задумчиво обогнал Димка, мой лучший друг. Я спросил у него:
- Не знаешь, кто она?
Димка обрадовался. Мой высокий друг вертел головой во все стороны, разглядывая редеющую толпу и затемненные дома. Он думал. Потом произнес такую речь (он иначе не мог, всему подводилась база):
- Тебя к ней тянет необъяснимое, и не нужно выяснять, что и как. "Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои". Говорят, любовь сводит родственные души. Я бы поостерегся так утверждать! Я бы поостерегся... Родственные души - не к вырождению ли их связь? На лице хороша одна родинка. У дворян с их кровосмешением, как ты знаешь, родинок десятки... Но я о другом! Очень глубоко сидит в нас нечто, не поддающееся классификации: тяга к неустойчивому через прекрасное! Да-с! Мы вообще-то - все - боимся тревог, неурядиц, усилий. Но Паганини и Блок, Бетховен и Рембо - вот властелины народов и веков. Гениальные стихи или сонаты швыряют тебя счастливого, плачущего, на такие поступки, что если вычесть причину - останется безрассудство, даже глупость. Но глупость - полезна! Прекрасное заставляет меня делать добро человечеству, ставя под удар мои привычки, деньги, спокойствие. И я радостно иду! Я бы поостерегся, но что делать...
Ну, не бред ли привычно городил Димка! Но я понял, что делать.
На следующий день хмурый и недоверчивый студент-геолог сидел на лекции у физиков.
Я запоминал всех подруг Нели, кому она улыбалась (может быть, пригодится, когда совсем сойду с ума, чтобы напроситься на встречу с ней). Я молил, чтобы она увидела меня, но взгляды наши непостижимым образом не встречались. (Мне казалось: в руках у нас - длинные тяжелые жерди, и мы должны точно подвести кончик против кончика, но их по инерции заносит мимо).
Кончилась лекция, все вскочили, студент-геолог, отчаянно щурясь, протолкался к чернявой подружке Нели.
- Вас как-то зовут? - спросил я. - Ромашка? Звезда?
- Ни-ина...- заглядывая мне в глаза нежно, протянула она.
- Простите, Нина. У меня есть тайна. Я могу доверить ее только вам. Уйдемте отсюда!
Нина оглянулась, и мы, схватив свои пальтишки в гардеробе, выскочили в институтский дворик, в шатающийся солнечный свет, в запахи мокрой древесной коры. Я взял девушку под руку, и встретившийся нам Борис вытянул шею и убежал, так и держа голову повернутой к нам.
- Я слушаю...- мягко сказала лучшая подруга Нели. Она уже догадывалась, что сыграет какую-то коварную роль. Может быть, потом ее даже отравят или зарежут ножом. Она подняла синенький воротник, закрыла и еще шире открыла сверкающие, словно там вставлены зеркала, глаза. Впрочем, у всех девушек весной такие глаза.
О, женщины, думал я, шепотом рассказывая Нине о своих помыслах. Я был откровенен, она должна была оценить это. Я любил Нелю. Я готов был положить голову под колесо любого автобуса. Сорвать все звезды в институтском планетарии. Выпить серной кислоты в лаборатории химии.
Вокруг шлепала синяя капель, словно печатала на печатающей машинке приговор мне, несчастному. Девушка слушала внимательно.
- Солнышко... - прошептала она. - Дальше, солнышко.
Весь первый курс физмата смотрел на нас в окна. Теперь я знал о Неле много чего. Мы пожали с Ниной друг другу руки и пасмурные (для конспирации!), озабоченные, разошлись. 4. ТОМЛЕНИЕ ЛЮБВИ НЕЯСНОЙ. Я пропал. Я не ходил более на лекции в свой геофак, а посещал занятия физиков, чтобы только видеть Ее.
Со мной уже здоровались, со мной уже считались. Однажды профессор Антонов, проходя меж рядов, ткнул в меня пальцем.
- Итак, что мы называем производной?
Я вскочил и, глядя на доску, довольно бодро начал:
- Отношение де-кси к де-икс...
- Это ясно, - мягко прервал меня профессор. - Я про физическую сторону вопроса. Как вы сами понимаете, что это такое - производная?
Неля, обернувшись, изумленно глядела на меня с пятого ряда - она-то уж наверняка от Нинки знала, что я здесь чужой.
Я продолжил свою мысль, сжимаясь от ужаса и обыденности происходящего.
- Производная - то, что производится специфически тем, кто производит. Радуга - производная дождя. - Я, вероятно, городил чушь, такую чушь, которая входит в историю университета, запоминается, вызывает восторг и бешеный хохот.
Беловолосый профессор Антонов невозмутимо дождался тишины, посмотрел в синие окна и пробормотал:
- Томление любви неясной... - И тут же. - К сожалению, вы ошиблись. Но это бывает даже у академиков... - и почему-то добавил. - В капстранах...
Втянув голову в плечи, я пошел к выходу, ничего не видя и все потерявший. Но странно - никто не смеялся.
"Томление любви неясной...". Это чьи-то стихи? Или чья-то мысль? Не Ленина? Не Маяковского?
Ночью я не мог спать. Днем не мог заниматься. На улицах царствовало солнце, ночью сыпался снег, днем он мгновенно оседал, испарялся, но еще мелом на асфальте дети не чертили - асфальт был влажным.
Меня вызвали в деканат . Сначала - в свой, потом - к физикам.
Мой румяный шеф, кандидат минералогических наук Рачковский, из знаменитой семьи Рачковских, ни о чем не догадывался, предполагал ординарную лень. Сидя перед шкафом, за стеклом коего мерцали разноцветные образцы пород - от белого кварца до сиреневого, полного тайных чар чароита, он усиленно жмурился. Можно было в складки его переносицы сунуть спичечный коробок, и тот бы держался.
- Если будут продолжаться прогулы, мы вас со стипендии снимем. Что же получается? - Шеф, зевнув, глянул в колдовские синие окна и еще сильнее нахмурился. - Что же получается? А получается то, что, прямо скажем, не украшает, что ни в коей мере не может быть зачислено в ваш актив, весьма способный молодой человек, спит целыми днями, как тюлень... Вдумайтесь:
тю-лень. От слова лень.
- А олень? - глупо спросил я.
- Что же получается, если мы все начнем просыпать, если мы все начнем пропускать занятия, если мы все начнем... - Шеф запнулся, подумал и буркнул:
- Идите! Подумайте. Впрочем, дайте мне слово, что вы больше не будете.
- Даю, - быстро сказал я.
- Верю! - Мой румяный шеф недавно закончил работу над докторской и настроен был игриво. Он простил меня, и, уже выходя из деканата, я слышал, как он напевает:
- Сиреневый тума-ан.. над нами проплыва-ает...
А вот шеф физиков, профессор Малкин, был проницателен, как черт. Он поправил белый галстук, смущенно улыбнулся и предложил перейти на его факультет. Длинное лицо его ушло в тень.
- Вы бы у меня выпускали КВН. А геологом сможете стать и без геофака. Ваши альпинисты в сравнении с нашими муравьи.
Малкин был находчив как завхоз. Его факультет славился, помимо альпинистов, лучшей волейбольной командой, симфо-джазом, шахматистами. Лишь размерами абалаковских рюкзаков да горластыми запевалами наш факультет превосходил физмат...
Я счастливо заморгал. Но я плохо разбирался в математике и сказал об этом декану честно.
Лицо у того стало непроницаемым. Я слышал, что люди, не понимающие, например, тензорного исчисления, для Малкина стоят на уровне коров. Кстати, не на уровне ослов... профессор как-то поразил нас рассказом о том, что, когда армию Александра Македонского окружили враги, он крикнул: "Ослов и ученых в середину!" Ибо он хотел сберечь умные головы и выносливых животных... Я понял, что могу идти прочь.
"Томление любви неясной..."
Следует сказать, что Неля жила в центре, на улице Лобачевского - от нашего общежития минут двадцать ходьбы. Вечерами, надвинув до самого носа шапку, чтобы меня не узнали недруги, я тащился к надменному крашеному в желтый цвет зданию.
В окнах второго этажа мелькали тени. Я был бы счастлив, если бы одна из них сгустилась, неожиданно просветлела - и я увидел лицо Нели. Но она ни разу не выглянула. Впрочем, она не знает, что я здесь...
Мир жесток. "Нет в жизни счастья!" - выколото на полночном небе моем.
Но однажды что-то случилось. Я плелся покуривая, по улицам города. Надо мною светили те же звезды, но смысл их изменился. Я знал, что сегодняшняя ночь - прощальная. С чем я прощался или с кем - вряд ли бы мог объяснить. Что-то уходило, снимая с моих плеч свои руки. И распрямлялись еще вчера по-мальчишески поведенные вперед плечи...
Уходила речушка в моей родной деревне, в зеленой пойме, с земляникой и диким луком, с красноталом по холмам, с гнездами ос в песке яра, средь лезущих в глаза корешков, торчащих из вертикального обрыва, уходила рыжая и маленькая. Уходила моя соседка, деревенская девочка Вика, с которой я вместе рос, с которой мы высекали искры из фарфоровых осколков в темном чулане, где было сыро и пахло мукой. Уходила моя ласковая лень - я мог сейчас любое здание в городе отшлифовать ладонью до прозрачности, как линзу для телескопа.
Что-то странное глядело мне в глаза. Я остановился.
Отвесно светилась зеленая реклама: "Т-А-0-Т-Ф-О-Н-0-М", почти "ТУТАНХАМОН": Дикость, какой-то Египет! А, это произошло наложение двух текстов, смотрящих в разные стороны: "Гастроном". И я глубокомысленно подумал, что любое слово, повторенное дважды, но развернутое в "разные" стороны, возвращает человека в пещеры, в тьму. Можно говорить лишь один раз, и только одному человеку.
Неля!!! Я шел по городу и из всех почтовых отделений давал ей телеграммы. Меня знобило. Я не думал о том, что будет после.
Я представлял, как ночью раздается звонок у Якубовых. Генерал, кряхтя, встает, натягивает брюки с красными лампасами и, наступая на бледно-зеленые тесемки, расправляя усы, идет к двери.
- Кто там? - глухо спрашивает он.
- Телеграмма. Откройте.
- Щас... Кому телеграмма-то? - бормочет генерал, снимая стальные цепочки, и слышит:
- Якубовой Неле.
- Эге... - закашлявшись, смущается генерал и шлепает босой в комнатку к дочери.
- Неля, дочка...- шепчет он, и тень его кавалерийского уса повисает над спящей девочкой как рог изобилия. - Тсс... Мама услышит... Тебе телеграмма...
Неля моргает, сонно потягивается, бледнеет, вскакивает и бежит к двери.
- Что? От кого! - быстро расспрашивает она.
- Распишитесь... - коротко отвечает почтальон. - До свидания.
- До свидания... Боже, кто-нибудь приезжает?.. Почему мне?.. Люб-лю Не-лю... Люб-лю Не-лю... Люблю меня? Да кто же это?! - Она возвращается к себе, закутывается в одеяло, губы ее шепчут: "Люблю Нелю..."
Через полчаса приносят еще одну. Потом еще и еще. Просыпается мать. Скрестив на груди руки, она стоит возле дочери. По ее морщинистой щеке катится керосиновая слеза. Она ее подхватывает в ладонь и кричит:
- На, пей! Пей мою кровушку, любимая доченька... Растила, ночей не спала, все тебе отдавала, чтобы только красавицей ласковой на радость престарелых родителей... Кто? Какой негодяй придумал эти штучки? Студент, небось? Двоечник? Спортсмен носатый? "Люблю Нелю..." Как-кая пош-шлость! "Люблю Розу", "Люблю Машу" - типично хулиганские татуировочки...
Неля плачет, а в дверь несут следующую...
Я иду и думаю: "Неужели это будет так?" Я тащусь по ночной улице мимо кинотеатра "Заря", на углу стоят три парня, увидели меня и подались наперерез.
- Куда? - срываясь на крике, спрашиваю я. - Часиков хочется? Рубля чужого? Подонки, трусы, вон отсюда!..
И незнакомцы исчезают. Пуста улица...
Неля, почему у нас с тобой все не как у людей? Мы бы могли по набережной сейчас бродить, стоять в подворотнях, щека к щеке, не больше! И я бы придумывал сказки всякие... Я бы про моего деда Ивана Сироту тебе рассказал, он в Средней Азии с басмачами воевал... у него глаза желтые, как у тигра в зоопарке... шрам на левой руке...
Поговорив мысленно с Нелей, я возвращался в общежитие. Возле второго корпуса ждала меня Нина. Она куталась в платок и помалкивала.
- Нина, - спрашивал я. - Ну что, Нина? Ну, что разведчица? - Я старался, чтобы голос у меня был уверенным, как у многоопытного соблазнителя.
- Вчера и сегодня занимались. Задачи решали. Потом чертили.
- Это хорошо. А вообще-то как, Нина?
- Передала твоего Лермонтова.
- И что?
- Спросила. Я сказала, что ты.
- И что?
- Смеялась. Мы вспомнили, как ты тогда Антонову ответил...
- И что?
- "Что, что"! Ничего. На полку поставила. Там книжек у нее - у-у. Потом в журналах рылись, - Нинка оживилась.- Такие журнальчики...
- Какие?
- Женские. Знаешь, моды.
Меня это покоробило. Я, впрочем, плохо разбирался в таких вещах, промолчал.
Подруга куталась передо мной в мохнатый платок и шевелилась, как ворсистая куколка. Что из нее вылупится - ночная звезда или нежная тигрица? Она дурачилась. Постукивала ножкой о ножку. Вздыхала соболезнующе.
- Ты знаешь, как они живут? У-у. Папа на машине. Мама в золоте и бородавках, такая милая, быстрая, все угощает. Носит узкое... но тебе неинтересно. Я к ним в любое время хожу.
Чувствовалось, что Нинка жутко завидует Нельке и рада дружбе с нею. Она облизала губы.
- Алик, я пошла.
- Спасибо, Нин. Я - твой. Можешь приказывать - что хочешь, сделаю.
- Ну, смотри-и... может, когда-нибудь прикажу... - многозначительно тянет она, вряд ли думая о чем-нибудь, кроме конфет. - Смотри, мужчина!
Лицо ее вдруг затмилось. Покраснела, что ли... Но я ни на что не обращал внимания. Я думал только об одном человеке.
В общежитии было скучно. Киря Картохо играл в шахматы с Борей, Димка стирал на кухне свои носовые платочки и разглагольствовал о современной американской атомной технике.
Увидев меня, он обрадовался. Выслушав мой рассказ о телеграммах, он кивнул и значительно поднял палец.
- Не суди никого. В каждом из нас тяга к совершенству. Карлик покупает ботинки на высокой микропоре. Великан инстинктивно добреет, чтобы не нарушились законы природы, так как в одну армию чаще объединяется зло, нежели добро - была бы возможность. Где-то высоко, слишком высоко - на воротнике у бога - та соринка, что предназначена глазу плохого человека. Но она не падает! На нее мало надежды! А девочка хочет покорить мир. Надо оберегать ее. И не мешать ей. Обаяние юности - это все! Все мы стареем, да и не очень красива она, - неосторожно продолжал Димка, глядя в потолок, поворачивая вправо-влево свою лощеную маленькую голову,- она некрасива, что ж делать, скулы, большой рот...
- Замолчи,- обиделся я. - Ты что мелешь?!
Димка опомнился.
- Да я это вообще рассуждаю о современной женщине...
Мы вернулись в нашу комнату. "Скотина,- думал я.- Как он может так обо всем?"
Димка всегда знал больше меня. У него под кроватью и на стуле горкой лежали книжки, в том числе и самодельные - фотокопии. "Карма", "Кама сутра", Фрейд, Блаватская... Он читал их утром и ночью до четырех утра, он читал на лекциях и семинарах, из карманов его торчали свернутые газеты и журналы...
Мне вдруг вспомнились слова Нели: "Не говорите ничего - я знаю". Наверное, тоже много читает? А я что читаю? Стихи... ну, еще всякие приключенческие романы перечитываю, вроде "Острова сокровищ..."
"Не говорите ничего, я знаю". Помнится, после этих слов она вздохнула, что-то хотела, кажется, добавить, была пауза, призрачная незаполненность, но тут подошла Нинка, и пауза осталась слабым обещанием что-то сказать при следующей встрече. А может, и не было никакого смятения, задержки мысли, а просто мне показалось...
Димка достал из-за груды книг бутылку портвейна "33", мы выпили, и мой друг продолжал, жуя хлеб:
- Женщинам труднее, чем нам. Ницше в своей книге "Так говорил Заратустра" пишет, что личность замкнута сама на себя, как электроцепь. Но в женщине эгоистическое начало...
- Ницше - буржуй,- отозвался Киря Картохо, на секунду отвлекаясь от шахмат.
- Правильно, - согласился Димка и радостно оскалился. - Но он умнее тебя и даже Бори.
- Что Боря, что Боря?..- заворочался на кровати длинный и рыжий, как крокодил, Боря, поднимая в кулаке крохотную пешку. - Что вы там про меня?
- Завтра твоя очередь на семинаре отвечать,- сказал Киря.- Деньги - товар.
- Правильно, Киря, - сказал я. - А что пишет Ницше?
Димка почесал грудь и вскинул голову, как гусь. Он вспоминал. Но я не стал ждать его слов, долил остатки вина себе и Борьке, и выпил.
Неля, разве ты не красива? И я уже не слушал друга. Димка что-то произносил, размахивая руками, как дирижер, скалил зубы, хохотал, затем трагически таращил глаза, и мне казалось, что я смотрю телевизор с выключенным звуком. И еще я подумал, что, верно, из Димки получится со временем трепло - будь здоров... * * * |