
 | ||||||
| Новости | Писатели | Художники | Студия | Семинар | Лицей | КЛФ | Гости | Ссылки | E@mail |
|
| |||||||
|
Александр СИЛАЕВ
АРМИЯ ГУТЭНТАКА
повесть
В 2000 году за повесть "АРМИЯ ГУТЭНТАКА",
* * *
– Оформи его, Миша, – предложил Гутэнтак.
…Сначала они шли, поддерживая друг друга хохотом. Под ногами шелестела осенняя желтомуть, в небе болталось нежаркое солнышко. Светило освещало им путь. Гутэнтак был в чернокожанной “куртке героя”, Миша – так себе, в чем-то простом и белесоватом: полуплащ до колен, помятый и местами запачканный. – Смотри, кошка, – говорил Гутэнтак, хохоча и подпрыгивая на месте. – Мать мою, кошка, – смеялся и сгибался пополам Миша. – Господи, одуреть, живая кошка, ну не могу… Он падал на землю, дергался и валялся. Катался, наклеивая на себя желтоватые и грязные листья. Поднимался – простой, семнадцатилетний. Со смехом вставал на ноги. Бросался догонять кошку. Та убегала. Миша опускался на четвереньки и пробовал лаять. – Нормально, – говорил Гутэнтак. – Теперь вопрос на засыпку: что такое трансцендентальная апперцепция? – Иди ты, – отмахивался Миша. – Твою мать! – смеялся тот. – Так положено: стоя на четвереньках и хрюкая, ты должен отвечать магистру про апперцепцию. Ты моржовый хрен или юбер-бубер? – Моржовый бубер. Назови хоть говном, только не оформляй. – За ответ – пятерка, – торжественно возгласил Гутэнтак, подражая господину магистру. Город не большой и не маленький: полмиллиона людей. Заводы. Фабрики. Театры. Десять Центров. Они заканчивали шестой, со флагштоком Фиолетовой Рыси. Кругом висела погодка, приятная им обоим: осенняя слякоть, утро, российский бурелом и перекосяк. Бурелом – это беседки с вырванными досками, разбитые песочницы и заваленные печатными листами дворы. Перекосяк – это внешний мир. Перекосяк – стиль жизни людей. Можно сказать, душа. На недоделанную “куртку героя” Гутэнтак прицепил четыре заглушки: на любовь, страх, музыку и водку. Миша щеголял единственным зеленоватым значком. Заурядным для воспитанника, на жалость. Летом он прошел испытание: закрытый дворик, мастер ведет бомжа. – Твой экзамен, Миша, – произнес Валентин Иванович. – Я сказал этому человеку, что если он убьет тебя, мы его отпустим. Он без оружия, не бойся. Давай. За всю историю проиграли только двое наших. Он встал в защитную стойку. Его удар – смерть (это ясно, не может быть по другому – парень заканчивает обучение). Он оказывал уважение незнакомцу, полагая, что его удар бомжа – тоже смерть. В таком случае не рекомендовано нападать. Он покачивался в нижней, выставив вперед руки. Бомж пошел на него. Миша расхохотался. Теперь он ясно видел врага. Он чувствовал энергию противника, ее вялость и спутанность. Он ощущал слабость мускулов за зеленой рубашкой. Он видел плохие нервы мужчины. Он предвидел скорость, с которой тот может нанести удар. И куда он может его нанести. И чем. Бомж не тренирован. Никогда и никем. Бомж сыграл не по правилам. Подобрал металлическую трубу в пяти метрах. – Убью! – заорал он. Миша легко ушел, злая труба ударила воздух. – Идиот, – ласково сказал он. – Положи палку, иди ко мне. Больно не будет. Ребята стояли полукругом, просветленный Валентин Юдин одобрительно качал головой. – Сука, – хрипел мужик. – Я люблю всех, – сказал Миша. – Я люблю даже тебя. Но это судьба, понимаешь? Мужик метнул трубу, очень сильно и точно для такого мужика, как он. Та просвистела рядом, Миша ушел и теперь был напротив чужой агрессии, тухлой, затухающей – он был. Тот ударил, попал на блок, открылся. Теперь он, резко и ладонью вперед. Вес тела в руке, а противник шел вперед, насаживал себя на мишино движение. Тела соприкоснулись. Удар разбил мозг. Вместо носа – бесформенность, каша, кровь. Одно атакующее движение, и экзамен сдан. – Молодец, – флегматично сказал Валентин Иванович. – Завтра можешь не приходить. Пиши текст, сдавай психологию… Это был обычай Центров, к семнадцати полагалось убить. У Центров многое в традиции: заглушки и черный цвет, групповуха и медитации. Сдать роман – экзамен по литературе. Любой может написать роман. Желание, технологии, время. Скучно. Только вот убивать нескучно, признавались неоднократные чемпионы. Сейчас у него восемьдесят две, а сто страниц установленная норма. Он писал фантастику про советские времена, раскручивая неомодерн в духе завуалированного постгуманизма. Речь шла о пионерах, упоенно собиравших металлолом. Три малолетних отряда соревновались в борьбе за переходящее красное знамя. В перерыве кто-то поцеловал Машу. А другой пригласил в кино. Любовный треугольник на фоне несданного в срок железа. Пионер Николаев рыдал, когда его отряд потерял переходящий флаг. К нему подошла растроганная Маша… и т.д. Одним словом, забористое фэнтази, как сказал ему Гутэнтак. Не хватает гестаповцев, которые бы их пытали. Какие гестаповцы? – недоумевал он. Полагаются гестаповцы, хмуро объявил Гутэнтак. Если ты хочешь, чтобы твой Николаев стал полноценным героем, он должен умереть в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. В советскую эпоху так было принято. Без этого элемента текст утрачивает свое историческое правдоподобие. А если он погибнет в поединке с драконом? – предлагал Миша. Если он погибнет в поединке с драконом, то будет хуйня, отвечал ему всезнающий Гутэнтак. Надо работать с однородным материалом. Знал, наверное, чего говорил – сам Гутя числился в литераторах и писал очень сложный текст, обещая его трехуровневое прочтение. Миша чуть обижался: забористое фэнтази – это ли не намек на уродство? Неомодерн и постгуманизм суть подлинные атрибуты эпохи, любой шаг в сторону – и ты евтушенко (никто не знал, что значит евтушенко как термин, но в обществе Гутэнтака это было заурядное ругательство наподобие слова “лох”). …Он упал на спину в аккуратно подметенные листья. – Уи-уи, – повизгивал юный воспитанник Михаил Шаунов. – Да здравстуют поросята как народно-трудовой класс! Правительство задолжало свиньям. Давайте угондоним это жидовское правительство. – Ну я убалдеваю, – радостно отвечал ему Гутэнтак, вечно-трезвый и умыто-расчесанный. …Наркота была обязательной. Полугодовые лекции, раз в две недели – увлекательный семинар. Курс читал просветленный Александр Берн. Семинары вела Кларисса. Пробовали все, но только ЛСД – не единожды. Берн усмехался: “я не могу себе представить воспитанника-наркомана”. Трое переспали с Клариссой (Центры, как известно, поощряли секс, хотя и допускали заглушку). В своих разноярких бикини она была красивее, чем без них. Колготки, юбки и блузки делали ее сексуальнее на порядок. Но пальто было уже перебором – в своем камышовом она была столь же обыкновенна, как без бикини. Заурядность не отпугивала. Кларисса казалась теплой и ласковой, такой впоследствии и оказывалась… – А скажи мне, Михаил, что нам видится с позиций феноменологической редукции? – спросил он, подражая мастеру Клыку. – Иди на хер, вася, – по-доброму ответил он Гутэнтаку. – За ответ – шестерка, – резюмировал тот. – Вы – моя любовь, Леонид Петрович, – сказал Миша, не вставая с земли. Подобрал охапку листьев, подбросил вверх. Блекло-подсушенные листья упали ему на лицо, воспитанник не переставал улыбаться. Один листик угодил в рот. Миша с наслаждением пожевал. – Вы – моя любовь, Леонид Петрович, – сказала девочка Ира в разгар контроля. – Серьезно? – прищурился просветленный Леонид Клык, мастер философии и экс-вице-коадъютор. – Серьезно, – подтвердила белокуро-джинсовая. – Ты меня понимаешь? – спросил тридцатилетний мастер Клык. – Не всегда, – призналась девушка. – Но разве для любви надо полностью понимать? – А что ты хочешь? – допытывался мастер. – Вас, – просто ответила Ирина. Немигающие зеленые глаза смотрели на мастера во всю ширь. – Неужели? – чуть растерянно усмехнулся он. – Ну хорошо. Он подошел и поцеловал ее. Немигающие глаза закрылись. А затем по-настоящему и всерьез, забыв мир и себя, мастер Клык всосался в губы. Шестнадцатилетняя ответила. Прошла минута и две. Сорок глаз восторженно видело, как мастер Клык сосет губы их одноклассницы. Ни слова, ни смеха. Очень тихо и слышно, как жужжит старенькая лампа на потолке. Он оторвался от девушки. – Пошли отсюда, – нежно приказал он. – Прямо сейчас? – спросила Ира. – Hic et nunc, – ответил он. – Неужели ты против? Он обнял ее, погладил волосы. Белокуро-джинсовая закрыла глаза, прижалась к сильному. – Дописывайте, ребята, – сказал на прощание просветленный Леонид Клык. В традициях Центра. Абсолютное hic et nunc: они не пошли к ней в комнату и к нему домой, все случилось на третьем этаже школы. Там был кабинет, в который никто и никогда не заходит – в этом кабинете есть парта, на которой девушка Ира отдалась мастеру. Все было нежно, без страха и продолжительно. Он ласкал ее, целовал. В джинсовом кармане Ира носила презервативы – в традициях школы… До этого она не спала с мужчинами – не в этом ли еще одна традиция Центра? Философия считалась главным предметом. – Я сочинил стихи, – задумчиво сказал Гутэнтак. – Валяй, – объявил Миша. Он игриво начал жевать очередную охапку листьев. Давился и выплевывал, но не прекращал, нахрустывая все упорнее. Смотрел на мир радостным котенкам – он, Михаил Шаунов, летом убивший первого человека. |
|
| |||||||
Миша выплюнул непрожеванные листья. – Нормально, – сказал он. – Только зачем обвинять евреев? Я всегда считал их великой нацией. А вообще-то это не поэзия. Послушай мое.
– Для семнадцати лет сойдет, – небрежно похвалил Гутэнтак. – Более того, с этим ты сдашь экзамен на поэтический минимум. Только не вздумай показывать это людям. Засмеют. – А зачем тебе заглушка на музыку? – неожиданно спросил он. – Бес его знает, – честно признался Гутэнтак. – Чем больше заглушек, тем целостней человек. – Вон оно что, – хохотнул он. – А я не знал, что и думать. Миша хохотнул еще более издевательски. Но он бессилен обидеть товарища: черная куртка героя делает того неуязвимым для слов. Он – выпускник. Он – почти готов, сложный парень восемнадцати лет от роду. На нем только два хвоста последней в его жизни центровой сессии. Выше только имперские университеты, посвящение в идеологии и черный плащ гения. Он фактически не принадлежит шестой пассионарной школе, а напарнику предстоит еще год. …Посвящение происходит в самый короткий день. Присутствует магистр школы, парочка оформленных идеологов, почетные граждане и наиболее завалящий член Лиги. Как же без них? Лигач гонит формальную речь-приветствие. Оформленные говорят какую-нибудь правду о жизни. У них богатый опыт медитаций и размышлений, и всегда отыщется пара сильных мыслей для молодежи. Обычно их выступление каждый записывает на диктофон, у идеологов вошло в традицию на день посвящения приоткрывать тайну мира. Тайн много, праздник раз в год. Лента крутится по-июньски весело: снова и снова. Самые могучие гости перед контактом отправляют молодежь в транс. Никто не знает, куда провалится его сознание. Но творятся чудеса, что готов удостоверить каждый. Рождается не только владелец куртки, но и претендент на плащ. И если не общение с оформленными, то шанса на будущее может и не возникнуть. – Очередные молодые люди, – громогласит магистр, – очередное пополнение элиты. Все молчат и сами верят в свою серьезность. В июне Гутэнтак кричал, лишь бы не заплакать. Он хотел убедить, что сдаст финансовый анализ с литературой до первого ноября. Ему поверили. Отпороли пару пуговиц и одну из эмблем, выдали с намеком на героическую ущербность. Конечно, он сдаст. Литератор Гутэнтак, юбер-бубер. …Грязный двор, газетные листы на земле портят даже грязь. Коряво песочница, беседка с дыркой – вот он, родимый перекосяк. Дешевые автомобили тихонько дремали в лужах, скучные и бессильные. Из подъездов осторожно выходили разнообразные люди, разболтанной походкой спеша по своим неотложным делам. Якобы неотложным. Скукота. – Скукота, – сказал Миша, поднимаясь с сентябрьских листьев и небрежно отряхиваясь. – А ты еще поваляйся, – предложил друг. – Авось чего и снизойдет. Ехихидина Гутэнтак. Но Миша пропустил совет. Зачем ему грязная подстилка природы? Он подбежал и вскочил на блекло-зеленую лавку, объеденную дождями и временем. Воздел руки к тусклому солнцу, рассмеялся во всю ширь. – Люди! – заорал Миша. – Есть тут хоть один человек?! К ноге, мать вашу, долбонуты плешивые! Не вам говорено, особи?! Дядька лет пятидесяти вышел из подъезда напротив. Сонный, неумытый, наверняка спешащий по неотложным. – Че орешь, дурак? – пробормотал похмельно-невнятный дядька. Судя по виду, мужик принадлежал племени алконавтов. – Ого, – предвкушающе сказал паренек. – Оформи его, Миша, – предложил Гутэнтак. – Лады. – Чего? – недопонял спешащий и неотложный. Гутэнтак чуть отошел в сторону, весело позвякивая четырьмя обетами на груди. – Сейчас я объясню вам, – вежливо пообещал Миша, – суть нашей маленькой корпоративной процедуры. Она называется оформлением мужика. Это, как вы понимаете, сугубо жаргонное название. Подлинное оформление индивида ведется только в центровых заведениях и может занимать до двадцати лет. То, что я предлагаю вам – не более, чем особое издевательство. – Прибью, щенок, – шипел дядька. – Воспитанник херов. (Простой народ, как они его называли, ненавидел спецобразованных. Он очень мало знал о хозяевах – заведения носили закрытый характер, – но кое-что чувствовал. Все чувства ухали в ненависть. Частое мнение людей, согласно независимым соцопросам: страной правит банда фашистов, либо Дьявол, либо союз козлов, морально четких, но без политической ориентации. Версия по сути одна, и к хозяевам относились лишь одним способом… Согласно Программе, через двадцать лет народ должен был обязан их возлюбить: целовать одежду, молиться, умирать за хозяев и т.д. Это нетрудно, если с массовым сознанием поработать. Воспитанники школ с массовым сознанием работать умели, но на излом ментальности по подсчету требовалось двадцать лет. Добровольцы-“оформители” только увеличивали этот срок, они делали не то и не так: магистры считали походы в народ – уделом школьной шпаны…) Миша вытащил пистолет из внутреннего кармана серого полуплаща. Передернул затвор, направил мужику в голову. – Будешь дергаться – убью, – предупредил он. – Мне нравиться убивать людей, ты понял? Если будешь материться, тоже убью. Мы твои боги. Мы пришли на землю дать свет и знание. Мы пришли начать на земле правильную жизнь, и ущербные люди вроде тебя обязаны подчиниться. Мы пришли дать вам Заповеди и Закон. Ясно? Я бог – ты дерьмо. Ныне, присно и во веки веков. Повтори, кто ты и кто я. Наврешь – убью. Мужик вытаращил глазки. Он вздрагивал пальцами, не двигался и молчал. – Будешь молчать, тоже урою, – лениво предупредил юноша. – Отвечай. Гутэнтак смотрел с любопытством, слегка почесывая ухо и улыбаясь краешком губ. – Ты бог, – неуверенно сказал мужик и замолк. – Это понятно, – произнес школьник. – А вот скажи нам, кто ты? Он нехотя шевельнул губами: – Я дерьмо. – Умница, – похвалил Миша. – Способный мужик, способный. У тебя есть задатки к пониманию. А ответь-ка мне, должно ли дерьмо любить бога? – Наверное, должно, – неуверенно сказал он. – Слушай, я поражаюсь, – сказал Миша. – Ты с виду идиот, а говоришь разумные вещи. Я думаю, ты еще не совсем потерян. А как ты думаешь, надлежит ли дерьму обращаться ко мне на вы? – Конечно. – Ну блин, ты почти талантлив, – ухмыльнулся Миша. – Жалко, если тебя придется убить. А ведь придется, если ты сейчас не оформишься. – Это как? – боязно спросил он. – Это просто. Я устраиваю тебе экзамен, и если провалишься – ну что ж, карма твоя такая, конец тебе будет. Экзамен простой, я бы сказал, жизненный. Первый вопрос такой: а зачем ты, мужик, родился? Учти, что долго думать всегда рискованно – кто не отвечает, тех сразу валим. Мужик опустился на корточки и заплакал. – Не надо, – просил он, – пожалуйста. Я оформлюсь, вы подождите. Вы только не убивайте. – Ты чего? – не понял Миша, ласково теребя зеленый значок. – Ну ради бога, пацан, не трогай! – Какой я тебе пацан? – брезгливо возмутился воспитанник. – Это сын у тебя пацан. И ты тоже. Понял, нет? Он подошел и ударил сидящего ногой в лицо. Тот повалился на землю, устланную желтизной и газетными лохмотьями, лицом вниз. Показался кровавый ручеек. Сломана челюсть? Выбит глаз? Молодого не интересовали нюансы. Он приблизился и схватил мужика за шкирку. Перевернул на спину. Стоял над ним, ноги вширь, глаза вниз. Нагнулся и прижал ствол ко лбу. Недобро усмехнулся: – Отвечай. – Нет. – Чего нет, кого нет? – рассмеялся он. – Я не понимаю. Ты же был почти умный. Подошел Гутэнтак, положил руку на плечо, мягко сказал: – Ну его. Пойдем, Миш. – Мы не пойдем, пока урод не ответит! – заорал Миша. – А если урод не ответит, я убью его. Гутэнтак недовольно морщился. – Мне приказать тебе? – спросил он тихо. – На хер тебе этот полудурок? – взвился Михаил Шаунов. – Ну прикажи, герой, прикажи. Ты же иерарх без двух пуговиц. Я подчинюсь. Я ведь тоже будущий куртозвон. – Да какой я тебе приказчик, – вздохнул Гутэнтак. – Делай что хочешь… Поверженный дядька закрыл лицо руками: он не мог видеть двух богопацанов. – Да пошли, конечно, – согласился Миша, пряча во внутренний карман пистолет. – Пошли куда-нибудь. Пошли к простым бабам? Это было совершенно особое развлечение: галантные школьмэны почитали за женщин только воспитанниц. Остальные, конечно – простые бабы. Сходить к ним едва ли не увлекательнее, чем оформить заурядного мужика. Дело не в сексе. Это отвязка. По Закону Империи граждане и пассионарии жили не в одной юрисдикции. В их кодексе тяжесть изнасилования обнулялась. Юридически вторжение в женщину каралось всего лишь занесением в карточку-5, если гражданка заявляла на пассионария. В обратном случае полагалось наказание плетью: за дискомфорт, который любая воспитанница могла легко пережить. Но надо хоть за что-то стегать их спины? Удовольствие – в том, как все происходит. А вовсе не в том, что учащается дыхание и содрогается член (понятно, что подлинную любовь и нежность школьмэны искали по свою сторону Центра – там тебе и член, и дыхание…). Удовольствие в стороне мирян называлось оформить бабу. Обычно это делали на виду. Для этого шли в людное место. Лучше летом, но сгодится и в сегодняшний ветерок. Миша поднес запястье: без пяти одиннадцать. Они бросили мужика валяться на желтомуте, пошли дворами. Натыкаясь на редких прохожих и подталкивая друг друга, вышли на проспект Труда, главную улицу полумиллионного города. Пропустили троих, четвертая показалась ничего. Так говорил Гутэнтак. Ее отличали зеленая курташка и голубоглазая двадцатилетняя мордочка. Не красавица, но ничего. Куртка обтягивала, еле закрывая мини-юбку, а та еле закрывала колготки, совершенно не закрывавшие стройных ног... – У нее ноги, – шептал Гутэнтак Михаилу Шаунову. – И улыбается. Я обожаю, когда женщина улыбается. У нее лицо студентки, мирской студентки. Она не дура. Я счастлив, когда баба не дура. Я уже хочу ее. Дурным голосом на перекрестке взревел пегий автомобиль. Зеленая курташка обернулась на рев. Из-за тополей к ней спешили двое. – Воспитанная? – на всякий случай спросил Гутэнтак. Он был уверен, но мало ли. – Я гражданка, – сказала она, предчувствуя почти все. – Сто баков – и минет под памятником царя, – улыбчиво предложил Миша. – Точнее, два минета. И двести баков. И не дури. – Я пошла, отстаньте, – сказала она так робко, что стало ясно: никуда не пойдет. Рада уйти – не проститутка! – но не уйдет. Откажется от минета, но никуда не денется. Не позовет на помощь, не ударит, не убежит – все это не то чтобы глупо, но не в ее силах. Юп вразвалочку бредет, и мирянин не уйдет. За три года окучили население. Первый период – шок. Второй – страх. Третьим наступала любовь. (“Чтоб когда-нибудь полюбили, для начала должны воспринять всерьез. Но серьезней всего относятся к тому, кто внушает страх”, – мимолетные слова Ницше стали основой новой идеологии). Третьим наступала любовь. Пока не наступила. Для завершения требовалось двадцать лет, если мерить занудством официоза. Но оформленные знали, что нужно меньше. Прошлой осенью они выполняли задание с намеком на плащ. Дали неделю. Спрашивалась концепция исторического развития. Нечто вроде Маркса, Ясперса, Шпенглера – философия такого пошиба считалась дешевой. Ее сдавали на куртку. Каждый обязан сесть и сложить кубики истории в согласии с заново отысканным смыслом. Если аргументация уступает классикам, экзамен пересдается. Восемьдесят щенков стали тойнби и ясперсами, данилевскими и леоньевыми, шпенглерами и гумилевыми, гегелями и марксами. А затем посмотрели вслед, высморкались, улыбнулись, пошли дальше. Любой из них превзошел этих взрослых людей. Потому что они – простые люди. И нет предела. Отсутствие предела легко осознается в семнадцать лет. – Стоять, – спокойно и уверенно сказал Миша. – У меня есть любимый человек, – призналась она. – Вы понимаете? Уже на грани слез, это видно. Она знала, что с птенцами Фиолетовой Рыси спорить нельзя, а плакать можно хоть с кем. Гутэнтак рассмеялся почти по-доброму. – Он мудачишка, твой парень, – ласково сказал он. – Хорошо, не хочешь баков – не надо. Шагаем отсюда. Миша взял ее под руки, и они пошли. Гутэнтак изучающе смотрел на ее ласковое лицо. Глаза, губы, чистая кожа. Наверняка студентка. Жаль, что девушка больше не улыбается. Впрочем, оформить бабу – это неприятная для них процедура… Они отошли за невзрачные обрушенные ларьки. Миша прижал девушку к темнокрасной стене, впился в губы. Руки расстегнули ей куртку. Юбка задралась вверх, ладони легли на бедра. У нее останутся синяки, подумал Гутэнтак. Он смотрел на друга и блаженно щурился. …В декабре темнеет рано, а заканчивается поздно. – Получится, попробуй! – рявкнул просветленный Валентин Юдин. Удар. Кирпич рухнул расколотыми половинками. – Теперь ты! – У меня сломана рука. – Тем более. О том, кто дерется раненым, слагают песни. Удар. Адская боль и ничего. – Представь, что бьешь не по кирпичу. Это форма, пустота. Учись видеть формы. Стань буддой. Представь, что бьешь по пустоте, которая за кирпичом. Давай сделаем проще… Мастер Юдин поднял с пола спичечный коробок. Поставил под кирпич. – Представь, что бьешь по этому коробку. Гутэнтак ударил. Снова полное ничего. – Наверное, ты лишен таланта, – вздохнул мастер Юдин. Лишен таланта – страшное обвинение. Таких карали одним способом, страшно и навсегда. Изгнание в мир, а как же иначе? …Мастер Клык сиял золотыми часами и белоснежной рубашкой. Мастер Клык был в черном костюме и в настроении. – Биографию десяти немецких философов, – с ухмылкой попросил он. – Наизусть. – Пожалуйста, – белозубо улыбнулся Михаил Шаунов. – Все мы знаем Иммануила Канта, но я все-таки начну с Лейбница. Клык поощрительно погладил свой галстук. На второй парте Ирина Гринева рисовала в тетради зеленого дракона, лампа в кабинете 2-05 жужжала по-прежнему. Шаунов рассказывал про несчастную любовь к Лу Саломе, миновав уже четвертого немца. Дурацкое задание. Просто надо нагрузить память и понять, что немецкие философы тоже жили. …Он вошел с опозданием. Ребята уже сидели по-тихому. Просветленный Александр Берн вывалил на пустую парту пять томиков Кастанеды. – Это любопытное чтиво, – зевнул он. – Но не лучше ли один раз попробовать, чем всю жизнь читать? Жизнь интереснее литературы. Сегодня мы изучим дымок дона Хуана. У нашего министерства есть закрытые плантации на югах. Да какие плантации? У меня делянка в Сосняках. Если будете падать в обморок, то не бойтесь. Не стесняйтесь обоссаться или блевать, в данном случае это норма. Двое воспитанников знающе усмехнулись. Пацанами они ездили на юг и шли сквозь пули через “линейку”. Плантации охранял гвардейский резерв. Камуфляжные отстреливали местную молодежь, дурную и охочую до халявы. Чудаки лезли на свою смерть, но некоторые возвращались. Тогда они счастливо миновали “линейку”, но ошиблись в пропорции. Из нижнего мира ухнули дальше вниз. Там они видели лицо Дьявола. И блевали, конечно, и обоссались. Десять часов лежали немые и без движения. Местные крестьяне отхаживали их пощечинами, пробовали поить спиртом. К вечеру пареньки вернулись в себя. Название корешков не помнили. А вот лицо Дьявола на всю жизнь. Его нельзя описать. Но если видишь, то не спрашиваешь, кто это. Два года их сознание улетало. Парни бродили по иным мирам, беседовали с их обитателями, были на Орионе. Потом что-то щелкнуло внутри, и вторая жизнь прекратилась. Зато сейчас они слушали с усмешкой: тертые калачи. Они не сильно уважали мастера Берна, но мастер Берн видел этих парней. Он знал, что преподаст им урок. Он сделает это сегодня или увезет их на уик-энд в Сосняки. …Просветленная Ольга Вьюзова излучала энергию, молодость и апрель – все слагаемые секса. Ей было двадцать шесть, она пришла на занятие в мульти-пиджаке и прозрачной блузке. Мастер Вьюзова весенне-ласково улыбалась молодым людям, хотя не исключено, что мастер Вьюзова улыбалась самой себе – кто знает? Гутэнтак смотрел на нее, не отрываясь. Он заметил над левым соском золотистый значок советника. Это значит, что заслуги перед Родиной сделали ее первой в роду новых аристократов. А ей только двадцать шесть. – Наш предмет занимается любовью, – уточнила она. – Но спать мы не будем. Я понимаю, что Центр поощряет секс во всех его проявлениях. И Центр правильно делает. Мы будем много говорить о сексе, как, впрочем, и о многом другом. Но я хочу предупредить группу: любовью как таковой мы заниматься не будем. – Можно нескромный вопрос? – Гутэнтак поднял два пальца в имперском жесте. – Да, конечно, – ответила она. – Мой опыт подсказывает, что нескромные вопросы самые интересные. – Почему? – У меня есть мужчина, – сказала Вьюзова. – А ведь женщине нужен только один мужчина, которого она любит. – Это избитая истина, – подтвердил он избитой фразой актуал-консула. Вьюзова тряхнула водопадом волос, отвечая встречной цитатой: – На том стояла и стоять будет земля русская. Не мигая, он обожающе смотрел ей в глаза. …На Конкина смотрели как на дивную зверушку. О новом мальчике каждый знал главное: он революционер. Будь он голубым или циклофреником, это не вызвало бы такого трезвона. Все знают, как нужны в природе голубые и циклореники. Но все слышали, что революционеры неполноценны. Это больные люди с неудачей в личной судьбе, это какие-то недомуты – а что еще сказать? Если человек хочет революции и вообще справедливости, то ему не нравится сегодняшний день; если ему не нравится сегодняшний день, то он неудачник; если он неудачник, его надо презирать; ergo: борцов за социальную справедливость надо презирать. Они не то чтобы злые, а ниже грязи. Экзамен на эту формулу сдают в начале. Однако Конкина привел сам магистр. – Он расклеивал листовки, – объяснил он на ежемесячном, – пытался взорвать вокзал. Говорил, что в стране угнетают народ, что диктаторов надо вешать. Говорил, что мы звери, поскольку развлекаемся массовыми репрессиями. Еще много чего говорил. О правах человека, например, о свободе. Собирался за нее умереть. Но я надеюсь, это все-таки по малолетству. Мужиков из его группы мы расстреляли, а парня взяли сюда. Он талантлив. Он так здорово доказывал, что человек не может эксплуатировать человека, что я чуть не поверил в эту херню… Он писал талантливые листовки, он талантливо убивал. Советники решили, что ему надо дать фундаментальное образование. Парень прирожденный воспитанник, просто его учили не те. – И что с ним делать? – спросил из второго ряда Михаил Шаунов. – Считайте своим братом, пока не сделает вам ничего плохого. Позанимайтесь с ним в онтологии. Учтите, что у него ай-кью сто шестьдесят, если мерить в дореформенных единицах. Первую неделю он затравленно ходил вдоль стен в ожидании, когда его начнут бить. Однако стены могут подтвердить, до конца года Конкина никто не ударил. В субботу отличница Маша Сомова пригласила к себе, оставила на ночь. “Мальчик был так напуган, что пришлось его изнасиловать. А что делать, если это любовь?” – признавалась она домашнему монитору. Хорошая девочка, высокая, большеглазая. Он влюбился. Время шло своим колесом. Однажды смешной растрепанный Гутэнтак пришел в полночь и подарил охапку пыльной литературы. Но остальные все-таки ждали его ошибок, пошептывались и поглаживали нунчаки. Со временем не дождались. Конкин стал хулиганом-“оформителем”, ходил в народ, повесил в своей комнате портрет первого консула. Читал запоем, шел на бриллиантовую медаль. Длинноногую Машу представлял готовой женой, а с Гутэнтаком глушил вискаря, пока оригинал не нацепил дурацкий малиновый крестик. Когда Шаунов сгоряча назвал Конкина борцом за свободу, тот вызвал его на дуэль. Гутэнтак с трудом уладил проблему: помог совет мастера Длугача и препарат мастера Берна, аккуратно принятый на четверых (Маша со слезами настояла на дозе). …Кроме того, они учили пять иностранных и семнадцать экономических дисциплин. Факультативно занимались алгеброй, геометрией, тригонометрией, высшей математикой, физикой, химией, биологией, музыкой, живописью, экологией, курагой, информатикой, дизайном, синергетикой, прикладной, шахматами, плаваньем и футболом. Недаром. Многие самовыражались. Допустим, Мария Сомова была с рождения сильна в квантовых процессах. Магией и риторикой – отнюдь не факультативно. Литературой занимались понятно как. Историей – так же. Указом актуал-консула они стали изучать этикет. На практику поступали в “белые отряды” и ТНК, хотя некоторые предпочитали уйти в горы или просто объехать мир. За все платило несчастное государство: за Уолл Стрит, за амуницию, за Тибет. Два десятка зевак смотрели, как он кончает. Член секундно замер и содрогнулся, выплескивая счастье на почерневший асфальт, еще и еще. Девица уткнула мордочку в ладони, ее никто не держал. Член обмяк, Михаил Шаунов застегнулся, пряча растерянность. Гутэнтак стоял в отдалении и блаженно смотрел в небо поверх голов. Он видел золотистые нити и горизонт, дурных птиц и глаза смотрящего на нас Бога, стеклянный воздух и капельки мишиной спермы на ее ногах, на сером и на зеленом. Зеваки загомонили. – Вот суки, – прошипел за кожаными спинами неизвестный. Рассеянно улыбаясь, он расстегнул две пуговицы черной куртки. – Вы все такие пушистые, – сказал он людям. – Как маленькие добрые мыши. Или как домашние хомяки. Точно-точно, как хомяки. Гутэнтак медленно достал “браунинг”, повел им в устрашающем жесте и огрызнулся поверх голов. Люди, пытаясь сохранить достоинство, затрусили прочь. Наплевавшие на достоинство рванули галопом. И как рванули! И как хрустально смеялся им вслед Михаил Владленович Шаунов! – Ну ее, – сказал Гутэнтак, – ну их всех. Пошли отсюда. Побежали, мать! Они отбежали метров на пятьдесят, остановились, начали гоняться за воробьями и задиристо пинать тополиный ствол. Словно маленькие. Оглянувшись, они увидели странное. У темно-красной стены стояло трое невоспитанных пацанов. Это было видно по их одежде, по прическе, по лицам. Один из них держал зеленую курточку, другой бил ее по щекам. Третий расставил ноги на ширине плеч, держась за ширинку. А вот перестал держаться. Достал кастет, знать, передумал чего, переосмыслил. – Чего это они? – спросил Миша. – Наверное, сдурели, – решил он. – Вернемся? По щекам лупил моложавый, лет двадцати. Его лицо казалось вытесанным учеником плотника. А если присмотреться, то неумелой тупицей, почти выгнанной плотником из учеников. Верх его головы закрывала черная шапочка. – Что, проститутка, юпам даешь? – приговаривал чурбачок. – Купилась, дура, за их говно? А пацанам не дашь, юповская? Миша подошел нахмуренно-озабоченным. Сзади разболтанной походкой огибал лужи Гутэнтак, насвистывая из Вольфанга Амадея Моцарта. Шестеро глазок изучающе уставились на заляпанный полуплащ. – Парни, вы неправы, – вздохнул Шаунов. – Нет, клянусь, вы ошибаетесь на все сто. Поверьте мне, так не делается. – Блядь, – сказал кто-то. – Ваше поведение противно на небесах, – вздохнул он. – А на земле оно хуже некуда. – А твое поведение? – со смесью ужаса и нахальства спросил кастетный. – Мое поведение нормально, – пожал он плечами. – Я не могу ошибаться и делать что-то не так. Разве вам по ящику не рассказывали? Кастетный мялся. Черношап оттолкнул девчонку, та упала на газон. – Ты кто такой? – спросил он. – Ты знаешь, кто я такой, – смиренно ответил Шаунов. – А может, не знаешь. Скорее все-таки нет, но какая разница? – Пошли выйдем, – сказал тот. – Пошли во двор. – Выйдем? – удивился Шаунов. – Мы на улице. Гутэнтак по-прежнему видел серое небо и золотистые нити. Глаза Бога в упор смотрели на нас, но, что удивительно, мир казался им безразличным. Человечество им было до фонаря. И это ощущалось почти физически. Гутэнтак отвел взгляд, попробовал насвистывать из Бетховена. Не получалось. Они стояли за бывшими ларьками, немного открываясь с левого фланга. Проходящие прохожие проходили как проходные пешки. Они шли так целеустремленно, как будто знали, что неминуемо пройдут в ферзи! Они шлепали в десяти шагах, поглощенные от макушки до пят собственной неотложностью. Серьезные все как один, без задоринки и смешинки. – Давай в арку, – без задоринки и смешинки предложил третий. – Отойдем, что ли? – Давай на луну, – усмехнулся Шаунов. – Не слабо? – Боишься, пидор? – змеино зашипел черношап. – Я давно все понял про вас, говны сраные. – Ну что ты понял? – вздохнул Миша. Он выхватил старенький ветеранский “кольт”, выстрелил навскидку. Парню снесло мозг вместе с черной шапочкой. – Уходите, – раздраженно сказал другим. – Валите! Если мне понравится убивать, я стану маньяком. Но я не хочу. Ну? …“Идеологическое высказывание типически отличается от онтологического и не может быть с ним смешиваемо, – писал Миша в мае. – Идеология устраняется из философской картины мира изъятием понятия о ценностном ранжировании фактов, поскольку критерием ценности всегда выступает отношение факта к благу субъекта, что недопустимо в подлинно философской картине мира.” Мастер Клык кивал одобрительно. “Формирование картины мира у человека осуществляется не суммацией знаний, а проходом через особую точку экзистенциального состояния, в которой происходит смерть внутреннего содержания сознания и рождение на его месте новых структур. Чтобы приобрести новую истину, надо предварительно осознать, что ее не имеешь, точнее – оказаться в состоянии, где готов это предварительно осознать.” Мастер Клык ставил ему пятерку. “Максимальная цель любого субъекта заключается в совершении им максимально возможного для него действия (вне зависимости от того, осознает ли он сам желательность для себя этой цели). Человечество еще не рождено для совершения максимального. Подобная реализация лежит просто не по уровню внутреннего содержания человечества. Рано или поздно должны прийти те, чьей внутренней природе будут соответствовать более максимальные действия.” Мастер Клык совершенно не возражал. Они поговорили в июне, наконец-то вдвоем. В кабинете было светло и тихо, за окном невидимо щебетали и малолетки гоняли мяч. – Здесь и сейчас, – повторил Йозеф Меншиков по прозвищу Гутэнтак. – Я люблю вас, Оля. Я не знаю, кого там любите вы. Мне это безразлично. Если вы не будете моей, я перестреляю полшколы. Наконец, я застрелю вас. – А себя? – иронично спросила мастер Вьюзова. – Не знаю, – пожал плечами Гутэнтак. – Да и какая вам разница? – Ну ладно, пока, – сказала она, слегка улыбнувшись. Ольга Вьюзова махнула рукой на прощанье лучшему ученику и пошла к двери. Он резко выбросил руку. Ладонь легла на плечо, останавливая женщину. Она обернулась, инстинктивно подчиняясь нажиму. Гутэнтак усмехнулся: – Подожди. Оля разжала пальцы, ключ оказался в его руке. Женщина чуть натянуто рассмеялась, он вздрогнул, но все-таки закрыл дверь. Звякнув связкой, бережно опустил в карман. Он шагнул к ней, Вьюзова отступила. Гутэнтак неловко потянулся к ее губам, она увернулась, отстранила его ладонью. Одернула помятый им мульти-пиджак со значком советника. Улыбка, ладонь – двойная защита. – Не надо, – просто сказала она. – Я не знаю, Оля, чем это закончится, – сказал Гутэнтак. – Я думаю только о тебе. Я никогда особо не любил жизнь. И первый раз в жизни я кого-то люблю… – Ну хорошо, – раздраженно, но с опаской сказала советник Вьюзова. – Я рада за тебя, но я уже говорила. – Оленька, я люблю тебя. Я хочу тебя. Представь себе правду: я думая только о тебе. Когда я засыпаю ночью, мне кажется, что ты рядом, что ты уснула Я смотрю и удивляюсь, что тебя нет. Я почти готов искать тебя в своей комнате. Сумасшествие, да? Я не могу без тебя. Я пробовал – у меня не получилось. Я родился, чтобы действовать, но если ты не моя, то все пошло на хрен. Я не могу встать и пойти что-то делать, я могу только думать о тебе и смотреть на тебя, но я не хочу так жить – ты понимаешь? Вьюзова смотрела почти с сочувствием. – Отпусти меня, – мягко попросила она. – Мне нужно домой. – Тебе не нужно домой, – вздохнул Гутэнтак. – Скажи еще раз, что мы никогда не будем вместе. – Тебе не надо меня любить, – сказала Оля. – Тебе не надо меня хотеть. Есть много других увлекательных занятий, поверь мне. В твои восемнадцать – ты понимаешь? Он держал руки в карманах зеленого пиджака, чуть покачивался, смотрел ей в лицо. – Я понимаю, Оленька, – сказал он. – Я все понимаю, и не хуже тебя. – Ну ладно, я пошла, – Вьюзова улыбнулась и протянула свою маленькую ладошку. В ожидании ключа. Прошла тихая секунда. – Ну ладно, Оля, – сказал он, отступая на шаг. – Я в сотый раз могу сказать, что люблю тебя. А, ладно… Он достал из внутреннего кармана школьный мини-“браунинг”, полученный год назад. Одним движением снял с предохранителя и передернул затвор, все как учили. Выстрелил в угол. Стеклянная вазочка разлетелась вдрызг. А затем поднял “браунинг” и выстрелил ей в голову. Вьюзова упала на светло-серый линолеум. Слишком быстро упала. Он опустил пистолет, внимательно посмотрел. Дверца шкафа была пробита. Слишком быстро упавшая мастер Вьюзова в неудобной позе лежала на полу. Без царапин и синяков. Смотрела на него непонимающими глазами, однако без страха. Только удивление. Она медленно поднялась, он не стал ей помогать или стрелять снова. Смотрел ей в глаза, как и минуту назад. Вьюзова присела на краешек стола. Она рассмеялась, а затем рассмеялся он, а затем она серьезно спросила: – Неужели все так серьезно? – Конечно, – ответил он. Они молчали секунд пять, за окном по-прежнему гомонили. – Иди ко мне, – нежно-требовательно сказала она, он подчинился. – Здесь и сейчас. Она целовала его, а затем сняла пиджак со значком советника, а затем сняла остальное. А затем стемнело и пошел дождь. Никто не ломился в давно закрытую дверь, и ключ дремал в его зеленом кармане. А затем он стоял за разваленными ларьками. – Не плачь, глупая, – говорил Михаил Шаунов зареванной девушке. – Ну не надо, лучше улыбнись. Когда улыбаешься, ты очень красивая. А когда плачешь, то так себе. Он пытался ее погладить, застегивал на ней зеленую курточку. Гутэнтак стоял в стороне. С Ольгой Вьюзовой он занимался любовью раз пять, но ко Дню Империи оба поняли, что в восемнадцать лет – немало иных занятий. Она убедила его. Теперь они добрые друзья, вместе ходят на теофил и сплетничают про деяния консулов. Как ни странно, он смотрит на нее почти без желания, хотя и верит, что нет на свете никого совершенней. Ольга Вьюзова – мастер, полгода вела у третьей группы “любовь”. Над левым соском у нее царапина: однажды Оля надевала золотистый значок прямо на майку. – Извини меня, – ласково говорил Миша. – У нас, оформителей, такая мораль. Давай я дам тебе денег, а? Ты не обидишься? Сто долларов, для тебя ведь это серьезно. Как тебя зовут, наконец? – Света, – сказал она. – Какое изумительное имя! – воскликнул он. – Скажи, что не сердишься на меня. Ну правда, Свет. Мне больно, что я сделал тебе больно. Я ведь добрый и хороший, честное слово. Способный к дружбе и настоящей любви. Она улыбнулась она сквозь зареванность: – Я сержусь. – Значит, не сердишься! – радостно заключил Миша. – Улыбка знак прощения. Он старательно счищал грязь с ее курточки, трепал волосы и даже норовил подтянуть колготки. Носовым платком промокал распахнутые глаза, возил фиолетовой рысью по лицу и шептал ей причудливую любомуть. Гутэнтак улыбался другу: того, как он понял, снова потянуло на добродел. С Мишей бывало, оформитель он не стойкий, временами заносит на искупить. – Пошли отсюда, – предложил он. – А то менты придут, оштрафуют за убийство. Ты защищался, но им-то чего докажешь? – Какие оштрафуют? – презрительно сказал Миша. – Менты-кранты, что ли? Меня оштрафует только национальная гвардия. – Но все равно, Миш, труп-то лежит. Понятно, что убил при защите. Но те же менты настучат магистру, а это колун в карточку-5. – Мы ведь возьмем с собой Свету? – спросил он, зная ответ. – Свету?! – обрадовано закричал Гутэнтак. – Я сочту за честь. Ведь это красивейшее на свете создание, милейшее и к тому же умнейшее. Скажи мне, Света, а какое заведение имеет счастье тебя обучать? – Я учусь в миру, – застенчиво сказала она. – Ладно, Света,- по-доброму сказал Михаил Шаунов. – Во-первых, мы это знаем, а во-вторых, это простительно. – И вам не зазорно со мной? Вот окучили-то простоквашных, мелькнула мысль. – Брось, Света, нам радостно и приятно. – Вы издеваетесь? – спросило умнейшее на земле создание. Миша с нежностью поцеловал ее в нос. Прошептал на ушко, чуть касаясь его кончиком языка: – Нет, моя хорошая. И с этими словами они пошли по большому городу. Из кармана мишиного полуплаща выпало расписание, осталось лежать, мокнуть под будущими дождями и разлагаться. 9.35. Пассионарная этика.
|
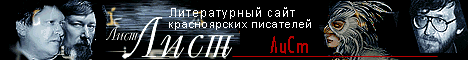 | |||||||
Редактор - Сергей Ятмасов ©1999 | |||||||