
 | ||||||
| Новости | Писатели | Художники | Студия | Семинар | Лицей | КЛФ | Гости | Ссылки | E@mail |
|
| |||||||
|
Марина САВВИНЫХ
СИНДРОМ АКСОЛОТЛЯ
маленькая повесть
1. ... здесь полно аксолотлей. “Контакты с аксолотлями опасны для людей” ( “Путешествия и развлечения. Самый полный справочник для деловых кругов Приземелья”. Спб; 2042; стр. 89, сноска 8). “Кто-то из первых поселенцев назвал это местечко – Стикс. Юморист, блин... да мне-то что. Я же не виноват, что лучше нет для разведения эрехтейского угря. Искал специально. Нету. Он плодится здесь дважды в год: прямо штук по сорок на одно гнездо. И затраты – смешные, только себе – из одежды кое-что да пища, самая простая; да еще горючее и спирт оплатить ребятам из транспортного концерна, они ради меня дают тут левака... ну и ... часть урожая, само собой, идет на благодарность. Но это ерунда, мизер. Я все равно в выигрыше. Главное, нет конкурентов. Аксолотлей – полно. Людишки боятся. Оружие категорически запрещено: разумные аборигены ... все такое ... а контакты, видите ли, опасны ... На черта мне контакты с ними. В гробу я видал ... по дереву постучать. Сезонов пять, ну – шесть, и мне вполне можно будет вернуться”. Примерно так я думал тогда. Если уж до конца быть честным, то я уж сыт был по горло красотами стигийских болот. С утра вылезешь из палатки – глазу не за что зацепиться: эта радужная дымка, знаете ли, эти необозримые изумрудные поля, жижечка болотная – по щиколотку, если наступить, только кое-где - заросли колючего кустарника, довольно высокого по здешним меркам, да на востоке, еле различимо, дымки. Деревня. Эта деревня – чуть ли не самая крупная на Эе. Население, говорят, до тысячи. Они любопытные, аксолотли. Их отпугивают. Есть специальный сигнал. Человеческое ухо его в обычных условиях не воспринимает. А на аксолотля он действует как электрический разряд. Не больно, в общем. Но отпугивает. Эту штуку включают на ночь. И можно спать спокойно. Такие сны еще снятся под эту музыку!
2. ... не хотел я останавливаться. Но остановился. День был жаркий. Болото слегка парило. Разморило меня, конечно, по пути. А тут – хоть крошечная, но твердь, хоть мизерная, но тень. И родничок между корней кустарника. Не пил ничего вкуснее здешней родниковой воды! Я присел на корточки, согнулся в три погибели и только было зачерпнул... Оно появилось, как призрак – наверное, соскользнуло с ветки. Я сразу все понял и хотел немедленно дать деру. Но не смог. Оно пристально смотрело на меня, как-то... умоляюще?.. ну, не знаю. Я так и сел. Я вылупился, как дурак. А оно, судя по всему, не собиралось уходить. Явно стремилось к контакту. Кто никогда не видал аксолотля, вряд ли поймет, в чем дело. Зрелый аксолотль больше всего похож на шестилетнего ребенка. И ведет себя – как человеческое дитя, игривое, ласковое. Последний раз я глядел на человека полгода назад, когда отправлял товар. Ребенка же не видел лет сто, ну разве что на собственном младенческом снимке, который – из суеверия – таскаю с собой. И вот, понимаешь ли, в двух шагах от меня - девчушка, голенькая (какая-то серая тряпочка посередке повязана – и вся одежда), босенькая, чумазенькая... всклоченные белокурые кудряшки над выпуклым нежным лбом... глазенки, полные слез... ах ты, Господи! Ребеночек не в шутку страдал. Это было сразу видно. Похоже, у него был сильный жар – дитя, обливаясь потом, тряслось от озноба. К тому же он был невообразимо тощ, этот аксолотль, и , видимо, страшно голоден. Я молча сидел на траве и ждал, что будет.
|
|
| |||||||
3. ...она называет себя Элси. По-английски балаболит не хуже нас с тобой, а уж как тянет “Дэ-э-вид”... Первые два дня она только ела и спала. Ела все подряд, все, что я давал – сосиски, маринованных угрей, крекеры, сгущенку... Температура все время держалась под сорок. Я ничего не мог сделать, как ни старался. Потом догадался запросить справочную службу – и оказалось, что нормальная температура тела у аксолотлей тридцать восемь и пять. Так что я имел дело с легкой лихорадкой, скорее всего, нервного происхождения. Тогда я плюнул на это дело. Она моментально это почувствовала – и стала таять на глазах. Начались жуткие бессонные ночи. – Д-э-э-вид... мне плохо... я умираю... скажи, ведь я не умру? – С чего ты взяла? Ты простудилась немного – вот и все. Отлежишься... вот... питье горячее – с медом. Гречишный мед – знаешь, с самой Земли. Пару дней – и как рукой снимет. Не плачь! – Ты ничего не понимаешь... не уходи только! Побудь со мной. Мне страшно. Я сидел возле нее ночи напролет, глаза слипались... я сначала клевал носом, потом – засыпал ... потом – просыпался от ее крика... – Не спи, не спи! Мне страшно! Зачем ты оставляешь меня одну?! Я брал ее на руки и долго сидел, покачиваясь, как китайский болван. Она засыпала. Но стоило мне только положить ее на постель, как все повторялось снова... – Как ты мог?! Ты меня бросил! Я умру ... умру без тебя! Это странно, но я нутром чуял, что она не лжет. Ее что-то беспрерывно терзало, внутренняя мука разрывала ее на части. Она смотрела на меня темно-лиловыми, глубокими глазами, и словно скрывала что-то за внешним, обманным, испуганно-жалобным взглядом, к которому я уже привык и которым она, по всей видимости, по привычке отгораживалась от меня. Отгораживалась – и в то же время постоянно намекала, что настоящее страдание, невидимое мне и непонятное, бесконечно превосходит возможность моего разумения. И если она умрет – а она умирает! – то уж никак не от банальной простуды, которая так легко поддается моим усилиям. Чай вот с медом... ну и т.п. Это было так не по-детски, что я через некоторое время перестал видеть в ней человеческое дитя. Какое там! Она – другое существо, чужое, чуждое. Когда она не стонала и не плакала, то сама обращалась со мной, как с глупым ребенком... или как с роботом-нянькой, который для того только и существует, чтобы ухаживать за ней. Сам не знаю, почему я слушался ее... делал все, что она хотела, даже если... впрочем, это сюда не относится... Короче, она умирала и страдала, плакала и стонала, прижималась вздрагивающим тельцем к моей груди, словно хотела добыть из нее универсальную защиту от сокрушавшей ее невыносимой боли... тем временем хорошая пища и уход сделали-таки свое дело. Она заметно поправилась, щечки ее округлились, порозовели, лихорадка прекратилась, она стала спать – долго, крепко и сладко, и уже не будила меня по ночам. Да... защиту от аксолотлей я выключил в первую же минуту, как Элси появилась в палатке. Однако, ни один аксолотль к моему жилью не подобрался. Ну и слава Богу! Я и не вспоминал об этом... потом оказалось – зря. Как-то утром я понял, что прошло уже больше недели с тех пор, как я притащил ее с болота. Я забросил все дела, пока возился с ней. Я даже не вспомнил ни разу о плантации... Ба! На календаре – беззвучным укором – светилось 24-е. Еще три дня назад я должен был проверить гнезда! Теперь, считай, третья часть урожая пропала!.. если не больше... Ругая себя последними словами, я помчался на плантацию. Элси спала – и к моему уходу осталась безразлична. Я возвращался с двумя тяжеленными сетками на самодельной алюминиевой волокуше – в довольно сносном расположении духа. Могло быть хуже... да, видать, похолодание поспособствовало: угри мои только-только успели дозреть до состояния, когда они начинают пожирать друг друга, пока из всего выводка не остается один, самый удачливый. Большую часть мне все же удалось собрать, хотя помедли я еще хотя бы сутки... Меньше полукилометра оставалось до палатки, я уже видел зеленую тряпицу на флагштоке, который собственноручно когда-то воткнул перед входом... вдруг будто кольнуло меня что-то. Я остановился, огляделся и все понял – над моей головой, довольно высоко, но так, что можно было разглядеть, кружил дайринг. Я видел! Своими глазами! Ну как объяснить... ведь невозможно спутать, хоть и не встречал никогда. Это все равно... ну... если б ты увидел ангела, разве ты спутал бы его с чем-нибудь?
4. Про них вообще-то много говорят. Говорят, что встреча с дайрингом доброму человеку приносит удачу, а злого – сводит с ума. Демоны они или просто редкостные существа, никто не знает. Я замер на месте и стал тихонько следовать за ним глазами. Дайринг медленно – кругами – опускался, словно специально для того, чтобы я мог его в подробностях рассмотреть. Хотя, скорей всего, наоборот – он меня рассматривал, со всех сторон, детально. Так, с дружелюбным любопытством рассматривая друг друга, мы становились все ближе – по расстоянию и... по состоянию. Наконец, он опустился на кочку, прямо передо мной, всего-то шагах в десяти, твердо подпершись хвостом и скрестив руки на груди. Ему было очень удобно и покойно вот так полусидеть – в молчаливом внимании к моей персоне. Я тоже молчал и не двигался. Мир шарообразен. Я чувствовал его круглоту и наполненность: капле некуда упасть. Мир таков, что к нему нечего добавить. Это правда. Все, что в пределе возможно, – это видеть его целиком, до мельчайшего кристалла, до клеточки. Искрой дрожать в каждой точке мира – и держать перед собой все точки, как на ладони. Понимая все разом про каждую и про все вместе. Созерцать. Я что-то очень важное тогда узнал. Что есть тоска созерцания, острая и сладкая, как... музыка! И не та, которую кто-то придумал и дал тебе для услаждения слуха, а такая музыка, которая есть ты, всепонимающий, всеотвечающий, весь, – музыка, которую слышишь в себе, а никто больше не слышит... и никогда не услышит! У меня во рту стало сухо и горько. Словно я дыма глотнул. Лицо дайринга – худое, смуглое, жесткое – неподвижно светилось передо мной... я не мог бы описать его черты. Даже не могу сказать, какая из человеческих рас к нему ближе. Может быть, ассирийцы какие-нибудь древние... не знаю. Я глядел бы на такое лицо, не отрываясь, без еды, питья и сна, пока хватило бы сил глядеть. Он тоже не сводил с меня глаз – очень долго... потом, наконец, распустил крыло, вытянув его во всю длину за правым плечом, слегка тряхнул им, расправляя складки, из-за левого плеча молниеносным всплеском вырвалось второе... он слегка покачал крыльями, создав шум и ветер, отвернулся – и полетел, поднимаясь и удаляясь. Через несколько минут я уже не мог различить его в радужной дымке болота. А дома меня ждал сюрприз, который я не сразу заметил. Когда я, наконец, прибыл со своими сетками к “месту назначения”, возле палатки было мирно и тихо. Я почистил, подсолил и упаковал угрей, загрузил контейнеры в погреба-холодильники – и только потом заглянул в палатку. – Эй,– крикнул я,– выходи! Полно дурачиться! Бесполезно. Элси в палатке не было.
5. В первую минуту я обрадовался. Ну вот и славно! Вот и ладно... все устроилось как нельзя лучше. Дикаренок окреп, поправился – и ушел в родное болото. Там ему и место. Ура! Я занялся делами. Связался с факторией, договорился о грузовике на ближайшую пятницу и вычистил палатку – как перед Рождеством. До самого вечера я был в приподнятом настроении. Точь в точь – больной, которому пообещали неприятную процедуру, а потом в последний момент отменили – дескать, может, и так обойдется. Я долго не ложился. Потом лег и не мог уснуть. Чего-то мне не хватало... Все же не всегда она ныла и скулила. Иногда глаза ее делались теплыми и умными, она брала мою руку мягкими теплыми пальчиками – и я ощущал... так покалывает босые ноги свежая травка у речки... или нет... вот если твоя кошка – в припадке бесконечной ласки и доверия к твоей хозяйской щедрости – разнеженно распластается у тебя на коленях и начнет, сладко урча, выпускать и втягивать коготки, чуть-чуть поддевая кожу... – Люди, – говорила она, – живут просто. Едва только кто-нибудь из вас появляется на свет, как для него тут же обозначается клеточка, которую он займет в конце концов. А если нет – вы это переживаете как большую беду. Мечетесь. Ищете чего-то. Пока не находите подходящую ячейку и не совпадаете с ней. Тогда вы переводите дух – и чувствуете себя счастливыми. – Откуда у тебя такие сведения о людях? – Кое-что узнала. Кое о чем догадалась. – Сколько же тебе лет? – Как знать?.. да и кому это интересно? Это ведь только у вас, у людей, жизнь зачем-то связывается с чередованием дня и ночи... никому из наших это и в голову бы не пришло. Жизнь и есть жизнь. Зачем ее приспосабливать к каким-то меркам? Это же не рыба, которой может не хватить! Болтовня, в общем... но я стал замечать за собой... понимаешь, у меня появились мысли, побочные моей деятельности. Честное слово! Я понял, например, что такое вечность. Как ты себе вечность представляешь? Ну – как я раньше думал, когда мне приходила охота пофилософствовать... что-то вроде вектора, устремленного к постоянно ускользающей точке... и ты на острие, на самой стрелке – все стремишься куда-то, к вечно ускользающей цели, которая все впереди, впереди... Элси живет в мире, в котором нет стремления. Болото – оно и есть болото. Все, что имеется, было и будет, – здесь и теперь. Поэтому нет никакого “было” и никакого “будет”. И времени нет. Аксолотль – существо вне времени. Он является на свет готовеньким, только размерами отличаясь от взрослой особи. Он – сразу сам себе идеал. Болото дает ему пищу, однообразную, вонючую, безвкусную, – но в изобилии: лопай, пока не надоест. Я искренне недоумевал (пока не постиг, в чем дело ), как вообще возможно мерцание разума в этих младенческих головах. Почему эволюция на Эе подвинулась дальше амебы... или гусеницеподобного эрехтейского угря... Я не раз наблюдал жутковатую картинку стигийского размножения. Обычно икряная кладка оживает сразу в нескольких местах... вылупившиеся личинки некоторое время как бы приходят в чувство, а потом с непостижимым остервенением набрасываются друг на друга. Все пожирает все. Пока не остается одна, последняя, особь, обожравшаяся до предела и обессиленная непомерным стрессом агрессии и страха. Эта последняя тут же впадает в спячку, которая прерывается только вялым шевелением всасывания и переваривания болотной жижи. В это время личинка увеличивается в размерах и достигает предельной величины: ее и считают соответствующей видовому стандарту. Взрослый угорь выглядит как угорь... только здесь, на Эе, это скорее растение, чем животное... или я чего-то не понимаю в животных. Скажем, актиния... растение или животное? Или – росянка?.. Угорь намертво прикрепляется к какой-нибудь болотной кочке и тихо дрейфует вместе с ней. Пока в один прекрасный день его не охватывает судорога размножения – он выбрасывает из себя икру и съеживается, как колбасная кишка, из которой выдавили фарш. И это – завершение жизненного цикла. Он уже, считай, дошел тогда и ни на что вообще не годен. Знатоки здешней фауны уверяют, что оплодотворение происходит как раз во время той самой свалки. Что это взаимное жранье – и есть угриная любовь. Может быть. Мой опыт разведения угря, пожалуй, это подтверждает. Когда я слишком тороплюсь с уборкой, следующий приплод обычно оказывается заметно ниже. В моем деле чутье – первое условие!
6. Элси вернулась через две недели. Вернее, я сам нашел ее в кустах, – метрах в трех от палатки. Еще ночью мне что-то мерещилось – какие-то звуки: то ли скулит кто-то, то ли стонет... Я решил – снится. Утром вышел – смотрю... У нее не хватило сил даже доползти. Она вся была истерзана, вся в жутких кровоподтеках, – словно кусал ее кто-то, или колол. К тому же ее всю согнуло – как бывает при сколиозе, когда между лопаток растет горб... я про компрачикосов вспомнил, мокрым полотенцем отирая с исковерканного тельца кровь и грязь... про нищих, которые калечили детей, делая из них профессиональных попрошаек. Трудно предположить, что при таких увечьях можно выжить. Но она была жива. И к вечеру даже пришла в себя. Тоска была у нее в глазах. Древняя, как пирамиды. – Могу ли я опереться о тебя? Иначе – утону. Ты – единственное, за что я могу еще зацепиться. Представляешь, как я подпрыгнул. Как, идиот, засуетился. “Конечно, – заорал я, вспотев от готовности,– я – твой друг, до конца своих дней! Только скажи, что я должен делать?”. – Просто будь со мной,– сказала она,– думай обо мне. Мне важно, чтобы ты думал обо мне и всегда был со мной. Днем и ночью. Неотступно. Всегда.
7. “Это приходит во тьме. Когда от усталости не можешь открыть глаза. Рядом кто-то сопит, чавкает и всхрапывает,– ты впервые замечаешь это. Тебе впервые нечем дышать, воздух родной хижины раздражает ноздри – и ты откуда-то знаешь, что вонючие испарения грязных тел – не то, чем дышат. Ты не можешь шевельнуться и не имеешь терпения оставаться на месте. И у тебя внутри возникает звон. Тонкий-тонкий... длинный-длинный... нестерпимый и бесконечный... кто-то шепчет тебе за этим звоном, и сначала ты не различаешь слов. Но потом – Патрия... Патрия... Патрия... ты проваливаешься в пустоту собственного сна с этим звуком внутри. И он уже не отпускает. Ты слышишь его днем и ночью. И чем дальше думаешь его – тем страшнее и холоднее. Когда встает солнце – на самой заре, ты выползаешь наружу. Все еще спят, и никому покуда нет в тебе нужды. Свежий воздух омывает тебя, как неожиданная ласка кого-то большого и сильного. Патрия – далеко; она острыми зубцами врезается в небо. И ты начинаешь скулить от тоски, от жадного и бесплодного стремления к ней. И ужасаешься, что до сего момента Патрия была невидима тебе, и даже имя ее было от тебя скрыто. Как она далека, как прекрасна! Как бессмысленна твоя тоска! Тебе не доползти до нее, а доползешь – она убьет тебя! Ибо здесь нет никого, кто был бы ее достоин!”
8. “У людей – хорошая еда. Разная. Известно давно, что пришельцы вкусно кормят, если уж обратили на кого-то внимание. Некоторое время считалось доблестью, если кто, войдя в доверие к людям, приведет за собой всю трибу. Это был золотой век в отношениях человечества и коренного населения Эи. Правда, короткий. Он закончился жуткими вспышками взаимоистребления эйцев. А когда в это ввязались люди... Погибло несколько эйских кланов и главный лагерь пришельцев. Такого даже старейшины тогда не помнили.
К счастью, кто-то сообразил, что это все из-за людей, из-за их эгоизма и неумения строить отношения. Людей стали сторониться... впрочем, за короткое время дружелюбия и вниманья многие эйцы выучились языку людей и – развлечения ради – стали между собой им пользоваться. Вступить в отношения с человеком – легче легкого. Соблазн! Все известные мне случаи кончились плохо, Дэвид. Прости, мне трудно говорить об этом...”
9. “Бига первая заметила. – Сдохнешь, глупая,– сказала она очень громко. И голос ее выражал зависть и презрение одновременно. Но я не могла уже есть это. Просто свыше моих сил было. Я не могла это есть. Я не могла этим дышать. Я не могла смотреть на них и разговаривать с ними. Меня никто не удерживал, но я знала, что не уйду. Куда бы я ушла? Эйцы не живут поодиночке. Ночью Бига оказалась рядом. У нее была сухая шершавая кожа. Она шептала – будто ветки скрипели под ногами... “Беда, – шептала она,– беда, несчастье... гордых поражает страшная болезнь. Они отказываются от еды, тело их ссыхается наподобие листка осоки, брошенного на солнце, они лежат без сил, пока не прилетают крылатые чудовища, чтобы выпить их жизнь. День за днем демоны стерегут несчастных, демонские голоса заползают в их бред... и наступает день, когда от гордого остается только пустая оболочка, легкая, как пыль. Ветер подхватывает ее и развеивает над болотом. Но ты еще можешь спастись. Прижмись ко мне, люби меня, верь мне”. Она обхватила меня руками, и когти ее сладко впились в мои плечи. Я было вскрикнула, но она стиснула меня еще крепче и простонала мне в ухо: “Молчи. Если остальные узнают – тебе не дожить и до рассвета. Я никому не скажу”. Она кусала меня и когтила, пока не утомилась и не отвалилась от меня, как насосавшаяся пиявка. Бледный ночной свет падал на ее спящее лицо – умиротворенное и розовое. Мне захотелось плакать, и я молча плакала, пока не провалилась в глухой и смутный сон. Во сне болото простиралось ПОДО МНОЙ.” 10. Я бросил все. Она становилась невыносимее с каждым днем. Иногда страдания ее доходили, казалось, до крайнего предела. И, не выдерживая, она кричала: – Не могу больше! Если б ты знал только, как мне больно! Ты не держал бы меня!.. Отпустил бы меня... Как будто я ее держал... но ей, видимо, легче становилось при мысли, что мне очень нужно, чтобы она валялась на койке в моей палатке и поносила почем зря меня и весь род человеческий... Я готовил ей три раза в день. Как никогда в жизни себе не готовил. Кормил с ложечки, когда она впадала в полузабытье. Время от времени она будто бы по-настоящему приходила в себя... словно вспоминала что-то... и тогда, обнимая меня и прижимаясь ко мне всем телом, которое становилось все более угловатым и жестким, она говорила: – Ты – мое спасение. Только бы у тебя хватило мужества и терпения. Держи меня, Дэвид! Не отпускай. Свяжи меня по рукам и ногам, если понадобится. Только не отпускай! Глаза ее светились тогда теплом и нежностью. И она рассказывала мне о Патрии, волшебной Прародине, которая являлась ей во сне. Элси называла Патрией горный массив, южные отроги которого были чуть заметны к северо-западу от моего пристанища. Там, по словам Элси, жили духи предков. А может, и не духи. Но существа родственные и бессмертные. Прекраснее и желаннее Патрии не было для нее ничего на свете. То, что с ней происходило, она почему-то связывала со своими снами, с Патрией, она была уверена, что если она выдержит все страдания, то каким-то непостижимым образом соединится с Патрией, уподобится ее бессмертным жителям... только надо выдержать! То есть не возвращаться в деревню и не прикасаться к обычной пище. Я скоро понял, что нужен ей не меньше, чем еда, которой она подкрепляла свои силы. Ей нужно было мое присутствие... хотя бы мысленное. Нужно было, чтобы я думал о ней... чтобы между нами существовала хоть какая-то связь. Она уронила как-то: эйцы не живут поодиночке. Видимо, это действительно так. Одиночество аксолотли переживают гораздо острее, чем люди. Похоже, для них это вообще фатально. Похоже, они подпитывают друг друга какой-то специальной энергией, без которой просто не могут жить – то есть буквально! И похоже еще, что эта самая энергия человеческими существами производится в неограниченном количестве... То-то аксолотли так липнут к людям! Знаешь... я не психолог... но у меня есть дурацкое предположение, что эта самая энергия называется на самом деле – внимание, приязнь, любовь... безотчетное тяготение друг к другу всего теплого и живого...
11. – Змея! Мерзкая змея! Не смотри на меня! Знаю я ваш завистливый род! Ты погубить меня хочешь! Я знаю! Я знаю! Глаза у нее были совершенно безумные. Она выкрикивала самые обидные слова из доступного ей английского лексикона. – Гад вонючий! Ненавижу! Зачем ты держишь меня? Что я тебе? А! Тебе удовольствие доставляют мои страдания! Садист! Я прямо дернулся – это было уж слишком! Около недели я, помня ее откровения в ясные минуты, старался не выпускать ее из виду и не давал ей ощутить даже намека на голод. Ей становилось лучше. Она даже начала веселиться и посмеиваться надо мной – над моими ежедневными заботами и трудами. – До чего ты нелеп, если приглядеться! А еще, наверное, смотришь на меня свысока! Возишься, крутишься, ни минуты покоя – а толку! Сам давно уж к болоту прирос, а все небесным гостем себя воображаешь! Для чего стараешься? Чего хочешь? Я сердился. Старался не смотреть на нее и не разговаривать, но она, почувствовав отчуждение, делалась ласковой, как котенок. Прижималась ко мне, заглядывала в глаза и все тянула своим... особенным таким голоском: “Дэ-э-вид... ну, прости... забудь, что я говорила... я совсем так не думаю! Ты – чудный ... ты такой добрый! Не оставляй меня! Слышишь?”. Однажды ночью меня разбудил необычный звук – что-то в плотной стигийской тишине свистело и пощелкивало. Тихо, но внятно и непрерывно. Я вылез на воздух и обомлел. Вокруг палатки – очень точно по кругу радиусом примерно в пятьдесят шагов – сидела целая компания детишек... вот так – по одному, на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Игра, что ли, какая... У них в руках было что-то вроде невидимых кастаньет. Они раскачивались из стороны в сторону в такт сухим коротким щелчкам, издавая ко всему еще... тихое, но очень отчетливое присвистыванье... не свист, а именно... фью-фью... с придыханием – не свист, а дуновенье в осоке... я замер, едва ли не блаженствуя – такое это было волшебство... Крошечные феи... им только крылышек не хватало... я, кстати, долго не мог понять, почему на моем пути оказывались исключительно девочки... теперь-то я знаю, а тогда мне это мистикой казалось... малюсенькие девочки – каждая с ореолом пушистых кудрей вокруг головки... ручки, сжатые в кулачки, подняты кверху... и движутся – все вместе – под свою колдовскую музыку... раз-и-два... раз-и-два ... как светящиеся белые кустики на ветру... Вдруг кто-то кинулся на меня сзади. Я чуть не упал – и тут же понял, что это Элси. Она обхватила меня за ноги, прижалась, прилепилась... Она дрожала... ее просто колотило всю от макушки до пяток... и она... скулила, подвывала... понимаешь, ее тянуло туда, к ним, к этим... и она знала, что там – конец. Знала – и рвалась к ним, зовущим, рвалась из последних сил. Что было делать? Я оторвал ее лапки от своих колен, поднял на руки и понес в палатку. Бог мой! Ее как током ударило! Она кусала меня и царапала, пинала меня ножонками, орала и визжала, плюясь и извиваясь... я затащил ее в палатку, завернул в одеяло... как кошку пеленают в ветлечебнице, чтобы поставить укол. Ну и ночка была! Элси билась и рвалась – те, в ночном болоте, не умолкали чуть не до утра... к утру я понял, что так и тронуться недолго. После этого всего она проспала часов десять... а когда проснулась, разразилась самой жуткой бранью, какую только допускал ее английский, усвоенный аксолотлями от летчиков, коммивояжеров и фермеров.
|
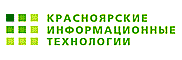 | 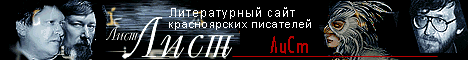 | ||||||
Редактор - Сергей Ятмасов ©1999 | |||||||