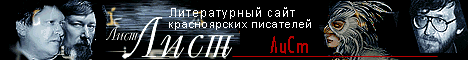| Александр СИЛАЕВ C'est moi, Дубровский рассказ "Когда в лихие года…"
Борис Гребенщиков Поймали как-то жиды мальчонку и давай ему Пятикнижие вслух читать. До шестой страницы дело зашло. А мальчонка не промах, возьми да взмолись ядреным своим голосишком:
- Русский я! Хули вам! Не издевайтесь надо мной, дяденьки… Пулите сразу в грудину мою литую, и дело с концом. За народ подохну, за сок березовый, за базар… А тайну вам хер скажу. И намек на нее не выдам. Жизнь моя по понятиям, и какие тайны тебе, баклан вражий - у правильных пацанов? У нас душа чистая, хоть сри в нее, хоть не сри… Стреляйте уж, фарисеи дутые. Умеете в сердце с десяти шагов, или совсем позором укрылись? Инородцы-то?
Призадумались изуверы, сели у костра в два рядка, косячок забили напропалую. Что делать, любезные? И кто - Господи Иисусе! - в заковыке такой повинен?
И встает тут главный, самый почетный, видимо. Ежели угодно - Верховный Жид всех - до самого оного - Российских Низовий. И выронил, фигурально кота растягивая - за хвост его:
- Герой, стало быть, пацан… Не взяли его золотые горы, стало быть, и хитрость наша жидовская не возьмет. И вообще ничего пресловутое. Надо его по российскому закону взогреть. Тогда, авось, по стенке-то и размажется…
- Не жесток ли ты, мессир, в своих колебаниях? - спросила его прекрасная девушка (бог весть, откуда тут взяться прекрасной девушке - но чувства гложут - что была Азазель прекрасна до самой крыши, и сверх того, и мораль: бабы и есть бабы, даже у чуже-подлых, у гнило-фобных, - штырь они, как сказали бы, вечной жизни, и не фиг на него вешать всякое).
- Уймись, женщина, - сказал Верховный, и все его оценили: и юмор, и решимость, и даже начитанность. - А пытать будем его по-тутошнему: стало быть, хворостиною.
Тут выбежал его зам в чисто поле, штаны надев. Наломал хворостины свежей и давай ее на огне накаливать. Раскалил до белого градуса, аж себе мутно сделалось, и слеза скупая течет, и впадает - в перспективе своей, в надежде - в северный океан, прозванный еще Ледовитым.
Но это только присказка, а сказка небывалая скоро начнется.
Калит, значит, жидов зам хворостину погану, а мимо Дубровский гулять вышел, на лошади.
На лохматой своей, на шустрой, на Алисе Матвеевне, как вы поняли. "Ну! - молит ее, - милая! Ну еще! Ну пожалуйста!". Однако не шпорит, кнутиком не наяривает, ведет себя как мужчина вежливый. Псих, скажите? Не ахти! Ибо животных с детства почитал, и как, спросите? - не за быдло. Даже отчества давал наши… И правильно, и по-божески: чего лошадке-то некрасиво делать?
Долго ли, коротко, вкривь и вкось по земле, а скачет себе Дубровский. Бородат, окладист, домовит - одним словом, исчадие русской мысли, взыскующей красоту. Видит зам. И дивится на такое совершенство, недоступное его пониманию. "Вот, - плачет, - сорок лет Каббалу учил, а на хуй? - скачет мимо меня такое совершенство, а его понять не могу, и не совершенство оно даже - на мой-то взгляд… Так себе, чмо небритое, и не более". Стал терзаться, от веры своей открещиваться, таить ее - прямо на месте.
Видит Дубровский, стоит у дороги мужик, делом занят - хворостину калит, а сам чего-то думает, нервничает. Интересно, смекнул Дубровский.
Задержал кобылу и улыбнулся.
- Вижу, беда с тобой, - мягко говорит. - Точно, точно, не приукрашивай… И жизнь твоя, вижу, не задалась. Зря живешь, наверное, муторно? По лжи, наверное? Или тиранит кто, за скотину безответную держит?
Ничего не ответил зам, но по лицу Дубровский все прочитал… что подумал тот ровно четыре матерных слова, и один союз, их связующий.
- Я Дубровский, - открылся он. - Я ведь помочь тебе хочу, я всем помогаю.
И погладил бороду свою нежно, и понял зам: надломилась его лживая канитель.
Упал он в ноги спасителю, поклонился.
- Ух, - сказал, а больше ничего не смог, но Дубровский и так все понял. Погладил его плешивую голову и сказал ему со слезами, и так, чтобы нежно:
- Не грусти, подонок, не надо… Хочешь, скажу тебе главное? Знай: не подонок ты отныне, а брат мне во Христе, в вере нашей.
- Правда?
- Ну конечно. Называю тебя именем Алексей и напутствую тебя истинно. Иди и будет тебе. Такого будет… пальчики обсосешь.
Тут и рассказал Алексей про умысел, на кого он хворостину калил, и залился пуще потопа.
Помрачнел Дубровский, сплюнул оземь и сказал, как сплюнул:
- Атас!
Наскоро грех простил и лошадку погнал галопом, и пригнал ее почем зря к месту подлого бездействия. Оглядел часы свои - ровно три пятых одной минуты. Задал Алисе Матвеевне по такому поводу поцелуй и сахару из берестяной коробки. Спешился - не спеша.
- Ну, здравствуйте, - сказал он. - Будем глазки строить, или приступим?
- Ты, бля, - начал один клеврет -
- Я Дубровский.
- Так бы сразу и говорили.
Проводили его к Верховному, а тот напротив мальчонки, балует самолюбие - корчит пленнику рожи, одна другой уморительней. Тот плачет уже, а мучителю все забавнее. Он ему и зайчика показал, и белочку, и самого Моисея.
- Отдай пацана, иуда, - буркнул Дубровский. - Слышь, ты? Отдай как есть, и пойдем по-мирному.
- Зачем расходится? Еще по-мирному? Давай по-маленькому сходим - на брудершафт. А хочешь, и по маленькой себя зальем. Зальем, так сказать, шары, чтоб все это не видеть. Хочется поди - шары-то, а?
- Это дело твое: сначала землю зассышь, а потом ее пропиваешь… А крестьянам - хрен. Или наоборот. По настроению живешь, да?
И давай гимнастикой заниматься, ради жути: пару сосенок поломал, и елочку под корешок убил - и все голыми конечностями, и все ему ничего… А козлы диво в кучу собрали и дивятся, как на черта, или осьминога, или чудо какое. А Дубровский кулаки размял и велел, чтоб сосенки схоронили, да как есть, без лукавства. Хоть и дерево, да тоже, поди, жить хотело.
Поклонился над могилою свеженькой, чмокнул землю милую и сахару ей задал - из берестяной коробки.
- Силен ты, - с подозрением говорит Верховный. - А вот умен ли? Шестерки мои, любезные, цыц ко мне! Несите, стало быть, хитрожопую игру шахматы, в них и срежемся…
Усмехнулся Дубровский, ибо в шахматы был обучен: и сицилийку знал, и испанку, и защиту Каро-Канн, разумеется. Не говоря уж о преимуществе двух слонов. А уж как в дебют дебютировал - любо-дорого!
Для начала швырнули на желудях. Жребий называется - по традиции. И достался Дубровскому белый цвет, а Верховному, как вы поняли, все наоборот.
Верховный облизнулся.
- Играем на Ваньку, понял? Кому нынче звезды светят, тому и Ванька.
Дубровский сомнительно покачал головой:
- А если ничья?
- Как делить, что ли? По-братски или по совести? Может попросту по уму?
- Не финти, мудрец, не в совете… Уравнение задать хочешь? По братски не сподобится - не брат ты мне, и братом тебя не назначу. По совести несподручно, ибо нет ее у тебя, не поймешь ты раздел по совести… А по уму - подлее всего. По уму жиды всех задуривают. По честному делить будем.
- То есть поровну, - предложил Верховный. - Пилим огольца на две половины, на инь, стало быть, и вторую. На ян.
- Повдоль или поперек?
- Честнее, конечно, повдоль, только уж больно долго. И верещать, наверное, сильно будет. Закатит нам концерт, а кому такое понравится? Такое только заденет…
- Значит, поперек, - рубанул Дубровский. - Не фиг лишний раз издеваться. Еще и без повода. Только мне, чур, верхняя половина, при уме и сердце. А тебе сплошные непристойности вроде сраки… Как писали при Хайдеггере - каждому, брат, свое. На воротах. Кому бузина, а кому и дядька в городе Киеве.
- Ептыть! - сказал мессир, и все поняли: решено.
Первым делом Дубровский вывел пешку на е4 и огляделся. Прислушался. Вокруг было тихо. Вдруг раздался зубовный скрежет, и чужая пешка бесстыдно-черного окраса вынырнула супротив нашей маленькой героини.
- М-да…
Дубровский выдохнул залпом и бросил вторую пешку на f4, сладко обмирая от собственной дерзости - под косой удар.
- Гусаришь? - с этими словами - пророческими! - Верховный сморщился и выжрал чужую пешку. Посредством, как вы поняли, собственной.
"Гамбит, гамбит, это же, братцы, королевский гамбит! Настоящий!" - разнеслось по лагерю. И словно ветром сдуло людей, и облепили доску в тринадцать рядов, а еще два ублюдка наблюдали за игрой с дерева.
А слух катился дальше девятым валом, подминая под себя окрестные села, вытягивая на себя одеяло, путая всем крапленую масть. Волки молились на луну отчаяннее обычного, лисы мели хвостами, зайцы и кролики, домашние и морские котики - ни фига себе? Представляете? На пятом ходу (Kg1-f3) местное крестьянство все поняло, и унылые ходоки, загребая лаптями, потянулись к месту ристалища… Один, второй, третий… Сколько же можно!
Бесконечным людским потоком шли они, рыгая и бедствуя. Они шли, облегчая ношу и душу, и набивая себе шишку, они шли, падая в грязь лицом, но изворотливо поднимались и перли дальше - словно рыцари в алкании святой чащи, и знамения помечали их путь. Первым делом странники увидали собаку о трех хвостах… "Бляха!" - догадался народ. "Бог послал! - утешил Елпидифор. - Бог, ребята - не падла… чего от бога, то наше… Сим, гони шампура!" Божьего мутанта кушали всемером. Ближе к ночи видели упыря. Он сидел на ветвях и дудел при помощи некой флейты… К чему бы? Пустозвон, решила молва. И долго тыкали его нутро осиновой палкой… Наконец, пришел черед живого утопленника. Он вылез из озерца и долго подмигивал. Елпидифор, как самый надежный, вызвался побалакать. Вернулся живым, но слегка того… "Ничего, - говорил, - свой парень… Кузьмой зовут. Жаловался на всяких… А так ничего. С русалками блядует по выходным. Нас зовет… Козел морочный…". И не понял его народ: как же так - с русалками блядовать? Как же так выспренно? Елпидифора долго мутузили, пихали ему что-то в уши… "Я не рыжий, - плакал он. - Если объебу кого, ниче потом не держу… Меня батя по-умному наказал…" Долго плакал, и убедительно. И оставил ему народ по такому случаю ногу, левую. Как же так - совсем без ног мужику?
К пятнадцатому ходу Дубровского (ход конем, но уже другим, ферзевым) орава приперлась.
Обступили своего кумира, а потом, глядишь, и облапали. Дубровский снисходительно улыбался. Дети, думал он, сущие дети… злые, конечно, куда без этого? - и чесал поклонникам бороды. Мужики жмурились и подрагивали от счастья.
- Кровинушка! - шумели они, и другие тоже шумели:
- Лапонька наш!
- Отец-основатель!
- Люди трудной судьбы, - шептал Дубровский. - Эка вас растащило…
- Ангел мой, забери меня от лукавого! - надрывался Елпидифор. - Чего хошь бери, хоть табак. Главное прошу - избави!
И глядела прекрасная Азазель на мужское братство, и надумала: хочешь иль не хочешь, отдаться надо. И главное, на росе. Если без росы - так себе… каприз, мастурбация, почти блажь… А с росой - Гейдельберг, то и се, романтика… Выпадет она, словно решка, маститому чемпиону.
- Стало быть, по первому разряду играешь, - цедит Верховный, топоча слоном на d7.
- Да уж не КМС, - говорит Дубровский, и пешечку так сует вперед - не без умысла. - Мы кружков не кончали, в УЕФА не резалась, Уимблдон не трогали. Мы по-русски.
- С душком, что ли?
- С душой, - поправил Дубровский.
- Хочешь, ладью тебе поцапаю?
- Да поцапай… Чем бы нутро не тешилось, лишь бы не блевануло.
- Стало быть, поцапаю… Я тебе и ферзю поцапаю. Хошь?
- Бесстыдник, - вздохнул Дубровский. - Ферзь, между прочим, мужского рода. Это королева - женского. Слышал разницу?
- А чего мне слышать? Я тоже Уимблдон не кончал. Чай не барышня…
Вот, с шутками да заначками, разменяли много фигур.
- Эндшпиль, - Дубровский скинул с себя сюртук. Расстегнул сорочку, и прожилки на его груди - блеснули ярко-сине, как наши реки.
- Ты еще носки не забудь…
- Не забуду.
И вынул Дубровский ноги свои, и развесил носки на дереве; ответил шуткой на шутку.
И шутили они еще семь часов без продыху.
А потом давай за дело, снова фигуры менять. И осталась наутро у Дубровского одна пешка (кроме, собственно, короля). А у Верховного - конь дурацкий. И тоже король.
- Ничья, стало быть?
- Поиграем, - сказал Дубровский. - Я из пешки-то себе выскребу. Много выскребу.
И давай ее загонять.
- Дамки хочешь? Будут тебе амстердамки… Хочешь, да? Чего язык раскатал? Не масленица…
Зубы заговаривает, а сам кобылой юлит… Дубровский пешку на с7 ставит, и тут ее - цар-царап. Помутнело сразу, как будто ясно солнышко - медным тазом.
Коня он цап, и чего? - и баста: голые короли.
- Ничья, - Верховный откинулся на подушки. - Короля есть нечем. Ничья.
- Нет! - закричал Дубровский. - Не бывать по-твоему, отродье… Зуб даю на поругание - не бывать…
Вынул он коробку берестяную, зажмурился. Из нее - кусок рафинада. Сжал в ладони, и раскрошился рафинад. Окатил он сахарочком черного короля, и в рот его потащил… Смотрят на это люди, и глаз круглят - с удивления.
Хрустнуло. Дубровский сжал челюсти, и хрустнуло посильнее. Морщится, а хрустит. Только рафинадом закусывает…
- Вот он, русский вымысел, - вздрогнула Азазель. - Кто бы мог угадать: такое дело - под рафинадом?
Выплюнул Дубровский последние щепки и улыбнулся неприятелю до ушей.
- Нет более короля… Революция как пить дать.
- Король, стало быть, умер? Ты погодь, старина, разведем по-нашему, паритетно…
Сказал Верховной и тоже зажмурился - видать, пример заразителен. Вынул он жужла - иноземного, дорогого, чиваса, храни боже, ригала. Хлебанул грамм двести и потянулся к белому королю. И лизал его, и кусал, и вприсядку пробовал -
- Ан хрен! - говорит Дубровский. - На кого зуб-то поднял, а? Не возьмет жидова пасть монарха, особливо такого.
- Какого, в пизду, такого?
- Нашего, - сказал Дубровский. - Лицом светлого. И в белых одеждах.
И давай мужики окрестные ржание проявлять: то и се, балагурить стали. И шутить на скользкую тему, с экивоками в шовинизм: якобы, у масонов зубы гнилые, а, может, плохо наточены.
- Точить тебе, масонушка, не переточить!
- Гы-гы-гы!
- Уи-уи!
А Елпидифор - бам! Аж упал, так за родину сильно стало. Подняли его и давай качать, вверх подкидывать и ронять. Раз пять пал сегодня - и что сказал? - то и сказал: за родину, мол, за дело.
Обсосал Верховный фигуру мертвую, выпил с горечи еще двести и рукой махнул: забирай трофея, чего уж там.
Обхватил Дубровский Ваньку за чуб и нагнулся, дабы губами чмокнуть… почти. А шалун-то стал вырываться.
- Не хочу, - говорит. - Мне у дяденек по приколу. Накормят, напоят, белочку покажут, а то и самого Моисея. Кто со мной там в белочку поиграет? А в пророка-дяденьку?
Нахмурился Дубровский, подержал себя за сердце и выпустил.
- Без упрека был… Мальчик был - казаки-разбойники. С понятием себя вел…
- Свободу! - кричит малец. - Долой самодержавие и народность! Православие им в жопу! Мир, май, свободу печати! В Гаагу на евро-кон!
- Самое главное ты забыл, - это была Азазель, расстегивая себя. Сначала юбочку - от Куинджи… и блузку цвета до, и сандальки модели брюмера… Осталась примерно так: нагишом. Не в улет, конечно, в бикини от Сан Кюлота… знаете? - вверху чего-то, внизу, а посредине - это… цвет игристой ткани - лазоревый. Смотришь так, и кажется - Рубикон… И далее, играя ступней о травку: - Самое главное - сам поймешь… Вырастешь, станешь мужчиной - и все поймешь. Или сейчас тебе сказать? Дай мне ушко…
Делать нечего, на тебе ушко.
- Главное, юнец, - крикнула Азазель, - права человека!
Дубровский тер виски:
- Шабаш, ну чистый шабаш…
- Еще не начался, - прижалась Азазель. - А давай устроим?
- Прекрасная незнакомка, что ли? Тогда еще ничего… Только будь по-моему.
- Будь, конечно, - и закрыла глаза, а он?
…задал ей - до упаду - сахара из берестяной коробки. Завидным глазом смотрела на это дело Алиса Матвеевна, всяко смотрела, так и эдак, исподлобья и за глаза… а кого это режет? ее и за человека считать не принято. |