
 | ||||||
| Новости | Писатели | Художники | Студия | Семинар | Лицей | КЛФ | Гости | Ссылки | E@mail |
|
| |||||||
|
Александр СИЛАЕВ
НЕДОМУТ
рассказ
1 Четверо их было, четверо, – много ли, мало? – все, как положено, в черном, по случаю как бы, для торжественности, для понтов, для того, наверное, чтоб нагнать побольше страха на человечка. Сначала он решил не бояться, выдержал секунд пять. И все оттого, что в книгах было написано по-другому, по меньшей мере, в тех книгах, которые он читал, хранил, перечитывал... – Налево, козел, – сказал один из них. – Я не козел, – попробовал защититься он. – Назовите себя по-другому, – предложил конвойный. – Я человек. – А это мы посмотрим, – улыбнулся тот, и через короткое время хохотали все четверо. Они и смеяться могут, удивился он. – Мы много чего можем, – зевнул самый молодой, с серебряной бляхой и ясным профилем. – И мысли читать? – Не-а, – ответил тот. – Мысли – это твое. Они пошли дальше. – Что со мной сделают? – поинтересовался он. – Живы будем, не помрем, – весело ответил ему ясный профиль. – Я понимаю, – понимающе сказал он. Один из конвойных взял его за руку, ласково заглянул в лицо и веско сказал: – Ты не хера не понимаешь, Смурнов. Ни хера. Понял? Большинство людей ничего не понимают в этой жизни оттого, что им кажется, будто они все поняли. А они ничего не поняли. Им учиться надо и учиться. А они судят мир, как будто имеют на это право. Придурки хреновы, бля, ты такой же... Смурнов долго молчал, думал, наверное, колебался там, стеснялся по заядлой привычке, затем сказал, дрожа в голосе, от храбрости своей, что ли, произнес: – Зачем вы ругаетесь? Ясный профиль вздохнул и печально посмотрел на Смурнова. – Я объясню. Думаю, поймешь. Представь себе мат. Особые конструкции, да? Представь парня из подвала. Пятнадцать лет ему, а матюгается уже профессионально. Или мужик - тот же парень, только подрос. Он же не умеет по-другому, да? Мерзко это и скучно. У них внутри плохо, очень пусто у них внутри - вот что я хочу сказать. По структуре все пусто. Баба, еда, кореша. Они, наверное, счастливы по своей структуре. Нет там того, что сложными словами выражается. Все простые действия ложатся в словарь из матерных производных от одного глагола и двух существительных – мне один филолог рассказывал. А вот сложное выражается сложно. А если сложная структура выражается матерно - значит, она актуализирует какие-то вещи подходящим способом. Это мат второго порядка, если не третьего, представь: матерящийся Аристотель. Это ведь нормально. Усек, пидаренок? – Но почему? – возроптал было Смурнов. – Я назвал твой статус. И здесь, и в мире. Потому что пидар для тебя слишком уважительно, при негативной оценке пидар - это нечто хотя бы минимально серьезное. Ты несерьезен, так себе – пидаренок-гетеросексуал... Шедший впереди толкнул большую деревянную дверь, это надо же – деревянную! Ручка – металлическая! По крайней мере, на вид она была металлической, дотронуться до нее Смурнову не пришлось. Комната за большой дверью казалась тесной. – Подождешь здесь, – объяснил начальник конвоя. – Наверное, долго. Но тебе время не повредит, ты всю жизнь скулил на его недостаток. Ты вообще часто скулил, куда чаще, чем полагается… – А сколько ждать? – Не знаю, – улыбнулся ясный профиль. – Как там решат. Может быть, час. Или год. Обычно два-три дня... – Хорошо, – согласился Смурнов. Все захохотали, кроме Смурнова. Смеялись звонко, заливисто, от души. – Если б ты сказал, что это плохо, я двинул бы тебе в челюсть, – признался начальник. – А я бы его обнял, – задумчиво сказал ясный профиль. – А я бы расцеловал, – сказал третий. – А я бы угондонил ему сапогом в живот, – сказал четвертый. Дверь захлопнулась. Люди ушли. Если, конечно, это были люди, а не другие создания. Комната имела четыре угла, она выглядела не треугольной, не пятиугольной и даже почему-то не круглой; бывают ведь и круглые комнаты, а уж сколько в мире семиугольных комнат, и восьмиугольных, а в особенности имеющих форму трапеции! Но нет, комната очутилась нормальной. Стену напротив двери украшало окно, закрытое как положено, но совершенно без решеток - залетай, кто хочешь: хоть сокол ясный, хоть голубь мирный, хоть ворон черный, хоть ворона, хоть воробей, хоть орел, хоть решка, хоть Карлсон, который, как известно, живет на крыше. Хоть бегемот. Бывает же всякое - открываешь спросоня глаз, а у тебя на балконе пасется бегемот, щиплет себе герань, урчит, похрюкивает, причмокивает, а тебе страшно, с непривычки-то особенно, не видал ты раньше бегемота, дикий зверь все-таки, нерусский, ненашенский, не знал таких, а тем более на своем балконе, да и балкона не знал раньше, отродясь не водилось у тебя балкона, а тут раз - и балкон тебе, и африканский зверь, и зачем глаз открыл? Спал бы лучше, любил во сне Дашу из десятого "Г", Машу с третьего курса, Наташу из своего отдела, подругу брата, жену друга, девушку из троллейбуса, Клаву Шиффер из шестой квартиры, Клеопатру из коммерческого ларька, целовал бы их мокро в губы, гладил волосы, шептал нежности, раздевал и не мог сдержаться – все во сне, разумеется, какая Даша или Маша наяву такое позволит? А тут тебе бегемот. Большой и неэротичный. К тому же нерусский. Щиплет герань, урчит, причмокивает и почти на тебя не смотрит. Комнату занимали добрая деревянная кровать и объемное пухлое кресло, и простяцкий стул. Вот такая исконняя обстановка, ничуть не тюремная, а вполне свою, комнатно-домашняя. У кровати раскинул ноги забавный маленький столик, а в стене виднелись шкаф, два зеркала, еще одна дверь. За ней висело третье зеркало, змеился душ и высился унитаз. Это так гуманно, подумал Смурнов, он ведь и не надеялся. На столике покоились ручка и блокнот, видимо, для заметок, для покаяний, для углубленых размышлений о сути жизни. Надо будет покаяться, надо будет поразмышлять, готовился Смурнов, обходя временное пристанище. И холод внезапно подкатил к сердцу. Он вспомнил, что и как, и каким образом, и в какой последовательности, и не понял, почему, и не догадался, зачем, и не нашел виновного – впервые в жизни узнал, что ничего не знает, потому что если он не знает этого, то он не знает вообще ничего, это ясно как божий день и божье утро. Это ясно как божья ночь. Он закричал, как не кричал ни разу раньше, как не кричал даже тогда, когда его убивали, он был скромен и тих; а вот сейчас кричал, впервые за тридцать два года сломав барьеры, ощутив свободу в крике, свободу хоть в чем-то, орал и орал, выкрикивая звуки русского языка, а потом английского и французского, а затем немецкого и турецкого, – хоть и не знал этих языков. Он прекратил шуметь, когда понял, что его не услышат. В этом месте вряд ли отвечали на крик. Он подошел к окну, уткнул нос в стеклянную плоскость и зарыдал. Второй раз сегодня он был свободен, пока что – свободен в плаче, как до того был свободен в крике, и это казалось приятным, так сильно плакать, так ведь можно выплакать всю мутотень, всю боль и всю слабость, а если сильно повезет – выплакать и свое незнание, своего непонимание сегодняшней ситуации жизни. Жизни ли? Он помнил, что его убили часа два назад. Между тем он чувствовал. Не было апостола Петра и архангела Гавриила, и не было черных вод, не шатались тени, и отсутствовала труба, яркий свет и прочие навороты доктора Моуди. Было то, что было. |
|
| |||||||
2 Он ходил по этой улице пятнадцать лет, и ходил бы еще полвека – перспектива отъезда из города К. отсутствовала напрочь. Он поступил на первый курс, и родители как раз переехали с правобережья, очень выгодный обмен, с небольшой доплатой, конечно, но тем и выгодный – что с небольшой. Квартира была двухкомнатной, и когда он женился (он все-таки женился), они оставили ему свое благословение, а сами исчезли, чтоб не мешать, не занимать жизненное пространство. Как они сказали, не путаться под ногами у молодой семьи. Сегодня на улице случилось сыро и мокро, но дождь не шел, он катился с неба мелкими бисеринками, они изредка падали за воротник, еще реже задевали ресницы, но это было ласково и нестрашно. Можно выходить без зонта и идти куда хочешь, где мокрее или где посуше, или где уютнее, или где опаснее, или просто куда шли ноги и смотрели глаза. А можно было стоять у окна и видеть, как большие капли с деревьев ударяли в полноводные, ночные еще лужи, и растекались девятым валом по их поверхности, и пропадали, а а рядом падали такие же капли – и снова тонули. В эту погоду уютно спать и сподручно выпивать водку, изумительно целоваться и говорить о любви. Подходяще писать роман. Ко времени считать деньги, играть со щенком, воспитывать сына, читать тяжелую и умную книгу, прощать врагов, трогать кошку или ласкать телефон, бездельничать, – все оправдано и все верно, когда мелкие бисеринки дождя едва гладят волосы, а глаза прохожих на улице дышат влагой. ...Второй ударил его подобранной железякой по голове. А затем было поздно. Он потерял способность двигаться и разбираться в пространстве, зачем-то держа сознание. Боли не чувствовал. В момент удара и чуть после было что-то другое. А потом уже боль. А потом уже и не боль. А потом его опять били. А потом первый сказал второму, ты че, дурак мол, по мертвому бить, это же труп уже, все, на хрена уже, не в кайф, пошли, бля, а то менты, бля. Первому исполнилось лет семнадцать. Второй, кажется, старше, или просто выглядит старше, или настолько некрасив, что о возрасте трудно судить. Уроды или очень красивые часто выпадают из возраста, и дураки выпадают, и гении, и птицы, и звери. Первый разговаривал спокойно и без оружия. А Смурнов слушал. Он не ударил в горло ребром ладони, и не заехал кулаком в нос, и не бил ногой в пах – не умел ведь. И не убегал, потому что родился скромным. И не смеялся, потому что чувствовал страх. Когда его ударили, страх скончался. Как будто и не родился страх. Кого бояться? Страх исчез, но было поздно, он потерял умение двигаться и делать что-то в пространстве. В себя пришел и увидел, что лежит не на мокрой улице под небом, а на сером ворсистом полу и под потолком. Он был в той одежде, что и в двух кварталах от родного дома, где его завалили железной палкой. Он видел, что лежит в темно-синих джинсах, кожаной коричневой куртке, черных стоптанных башмаках. Кровь не текла. Крови не было, и синяков, и царапин, и разбитой головы – целехонька была голова, и руки-ноги росли, и уши топорщились, и глаза близоруко зыркали, и член спокойно лежал; он чувствовал свои руки, свои ноги, свой член. Как хорошо, обрадовался он, а потом удивился, именно так, в очередности: сначала чувство неземного удовлетворения, а затем удивление, и только через промежуток – великий страх. Сначала было радостно чувствовать тело, впервые, наверное, со времен детства, со школьной эпохи, а может быть, и дошкольной. Он ведь не замечал свое тело, оно казалось ему вещью, футляром для переноса сути, так себе, не им; вот автомобиль перевозит тело, а оно перевозит душу, так примерно. Оказалось, не совсем так или даже перпендикулярно: легко понять это, получив железным прутом в мозг, а затем очнуться на сером и пушистом, и смотреть в потолок из белых плит, и не разуметь ничего, только видеть и только чувствовать. А затем пришли добры молодцы, числом четверо. С шутками, с прибаутками они подняли его на ноги и весело спросили: ну че, братан, идти можешь? Он встрепенулся, кивнул. Ну так пошли, мать твою, чего лежать, когда можно идти, почему идти, когда можно бежать, зачем бежать, когда можно лететь, да и незачем лететь, если весь мир – и так в тебе, только руки протяни, только шевельни мыслью? Сразу не ухватил, а переспросить убоялся, так и шли они, четверо молодцев и убоявшийся Смурнов... Навстречу им не семенили архангелы, не горел по сторонам божий свет, не струилась любовь, не плясали черти. Коридоры, коридоры и опять коридоры, ворсистый пол и белый потолок, тусклые лампы и коверные лестницы. Лифты гудели, но добры молодцы обходили их. Смурнов устал любоваться на пол и стены, он снова посмотрел на себя. И поглядел в себя. И снова не нашел боли, и опять не увидел крови. Конвоиры похохатывали, легко постукивая Смурнова в спину. Так и пришли. Ручка и блокнот имели страшный вид, они манили, отталкивали, пугали. В школе он здорово катал сочинения: из параллельных классов заходили и гурьбой списывали. Потом все получали оценку два, а через неделю шли снова. Смурнов – это надежно, это не подведет. Получить два за хитрость считалось правильней, чем получить два за тупость. В благодатные институтские годы намалевал рассказик, начал писать второй, но не выдержал, бросил. Тяжело рассказики малевать. Он не писал научных трудов, писем, докторских диссертаций, стихов, пророчеств. Он не пробовал начать тяжелый трактат о сути мира или записать свою биографию. Только часто вздыхал, до чего довел искусство родимый тоталитарный строй. Смотрите, мол, люди добрые, кошмар-то какой, что эти гады творят, как они нашу литературу, как они нашу интеллигенцию... И шуршала горькая и сладкая мысль, что если б не гады, мог бы стать великим писателем, или нормальным писателем, или на худой конец просто писателем – взять и стать, но гады не дают. Он радовался, что Совдепии нет, ради этого два раза ходил на митинг. Дело было в девяностом году. Потом, конечно, жалел, а потом запутался, не знал, кому верить: кто друг, кто враг, а кто просто так, а кто и непросто так... Знал, что гадов развелось больше. Знал, что ничего у него не выйдет. Знал, что провидение всегда на стороне гадов. Правда, не знал, почему. Но если провидение на стороне гадов, то стоит ли вообще что-то начинать? Например, занятие бизнесом? Или писать книги? И вообще, тише едешь – дальше будешь, всякий сверчок знает свой шесток и не лезет поперек батьки в пекло, не по Сеньке ведь шапка. Сенькина хата с краю. Сенька ничего не знает. Сенькина работа не волк, в лес не умотает, так что Сенька вперед не суется и сзади не отстает. Халявная у Сеньки-то жизнь. Смурнов знал русские поговорки. Он не писал еще и потому, что скучно. И познавшие жизнь знакомые говорили Смурнову: ну разве дело для молодого парня – буковки выводить? Мужицкое ли дело, стишки кропать? А пьесы сочинять, романы чиркать? Не мужицкое, ох, не мужицкое, знающе учили его, а он кивал кудрявой головушкой. Правда, так и не знал, что на этой земле мужицкое дело, не задумывался как-то, думать ведь тоже – странное занятие, нельзя же сесть в кресло и начать думать умные мысли. Нет гарантии, что они умные, и нет гарантии, что они вообще мысли. Говорили ему, а он соглашался. Он не писал еще и потому, что некогда. Постирать там, погладить, сготовить пищи на ужин, а ночью – спать, а утром – на службу, и все не в дружбу, на службе-то. Он хотел по привычке чего-нибудь постирать. Или, допустим, заняться едой: почистить картошки, замесить тесто, постругать редиску, сжарить рыбу, обделать курицу, покидать съестное в суп, плюхнуть сметаны, порезать хлебца, напечь блинов, поперчить, посолить, посахарить, добавить укропа, сунуть в духовку, позвать знакомых и устроить им пир горой. Или никого не позвать, а водрузить тарелки на стол, смотреть на них и радоваться, приятно ощущая себя Мальчишом Плохишом. Шахтеры, мол, бастуют, нищие старики голодают, а я вот чревоугодствую. Но в камере – назовем ее честно – не имелось посуды и не водилось съестных припасов. Не возникало и чувства голода. И нечего было постирать. Смурнов потянулся к блокноту, ловко прихватил ручку в руку и вывел фразу: "Я родился 15 октября 1965 года". Помедлил и приписал: "Потом я узнал, что отец хотел назвать меня Мишей, а мама Сашей. Назвали Лешей. До сих пор не знаю, почему. Так я появился на свет – Смурнов Алексей Михайлович. Я жил и живу в том городе, где родился. Вряд ли мое детство хоть чем-то отличалось от детства миллиона других детей." Шариковый стержень летал над бумагой. Через минуту стержень нервничал и переживал, дрожал и прыгал, временами бесновался и уходил в далекий экстаз. Жидкость стекала на белый лист синими закорючками. Как здорово, думал Смурнов, почему я не дошел до этого раньше?
3 Он родился 15 октября 1965 года. На восьмую годовщину рождения ему подарили котенка, назвали Пушком. Котенок суетился, валял по полу грязный носок, мяучил с голоду или с радости, спал где придется, запрыгивал на книжные полки и бегал по томам Достоевского. Пушок родился ярким, трех цветов: черного, рыжего, белого. Через полгода котенок умер, бог весть от чего – вроде не болел, а тут оп: сразу окочурился. Он внимательно смотрел на неживого Пушка, плакал, конечно, мало что понимал, разумеется, – мал был, неопытен. Как-то его били. Лет двадцать назад. Весело били, с посвистом, со смешком, с громким матом и сладким уханьем. Пацаны били, лет шестнадцати. Было их, пацанов, всего трое. Он, понятное дело, один. Тормошили его ребята гуманно, даже не сказать, чтобы били, так, наверное, общались. Говорили, например, что он сучонок, или что он стукач (чистая ложь). Или, допустим, педераст, или урод, или дурачок. Он обижался, не соглашался, доказывал. Дурак ты – весело отвечали ему. Нет, возражал маленький Смурнов, я умный, я поумнее вас буду, и начинал им рассказывать интересные сведения про ай-кью... Ладно, соглашались, ты самый умный суслик на свете. Ну почему я суслик, спорил он, я – человек. Ему объясняли, что он за человек. Нет! – кричал Смурнов. И пробовал материться, не получалось. Его хлопали по щекам, пинали по ногам, делали вид, что за всей силы замахиваются кулаком, якобы собираясь ударить в лицо... Он не выдерживал провокаций, дергано бил костяшками куда-то в грудь: нашел, куда бить амбала, долго думал, наверное, вот и нашел. Амбал хохотал, и только потом – хрясь. В нос. Или в солнечное сплетение. Остальные даже не помогали. Разбор шел по кругу: каждому он ткнул кулаком, и каждый вдарил слабому раз пять-шесть. Можно было не тыкать, а уйти прочь, они бы не стали его держать – не злые ребята, не убийцы, просто скучно им. Ему сказали бы, что он мразь. Еще бы кое-что сказали, что принято говорить у шпаны. Но не стали бы сбивать с ног или доставать ножик. Он бы исчез, они не заметили. Материли бы друг друга по-дружески, без него обошлись, нужен больно: мало чуханов, что ли? Но нет, горд Смурнов, верил в правду, не хотел побежденным-то уходить. Доказать хотел полноценность. Словом доказать, делом. Аргументировал, пока кровь не закапала. Пацанам даже скучно стало – вот тупой, бля, во тупой... Они его сами и прогнали; надоели его аргументы, осточертело его ласковое лицо. Уходи, сказали, а то уроем. Он и пошел, изнутри слезами наполненный. …Довелось Смурнову и влюбиться. Все влюбляются: козлы и гении, спикеры и офицеры СС, и нормальные советские школьники, и ненормальные, и такие, как он, и не такие тоже. Звали девочку Лена. Училась с ним в 9-ом "А", смешливы была не в меру, симпатична (в меру!), ходила длинноногой и коротко стриженой. Они и раньше учились рядом, но так вышло, что раньше не видел ее – а вдруг увидел. В девятом классе. Чувство, как и положено, объявилось не платоническим. Поначалу Смурнов сам не знал, чего хочет, даже приблизительно не догадывался, а через пару месяцев расчувствовал в себе наконец, что он хочет Лену. Никому о такой аномалии не сказал, и уж тем более не признался Лене. Мало ли что – засмеет, не поймет. Ходи потом такой, весь непонятый и засмеянный. Но что-то надо делать, нельзя так – чтобы совсем ничего не делать, смотреть на Лену, думать о ней, мечтать, и обходить вожделенную Леночку за версту. И вздумал он с ней беседы разговаривать. Подойдет, бывало, на долгой перемене перед самой биологией. И давай про цитоплазматическую мембрану. А иногда про инфузорию, которая туфелька, и временами даже про хордовых. А иногда про эпоху мезозоя, как одни ящеры питались другими. Начинал с провокации: а знаешь ли ты, Лена, про удивительного динозавра диплодка? И ну про диплодков загибать. Смурнов достаточно много знал о диплодках, об их весе и габаритах, об моционе и рационе, и о среде их обитания неплохо знал. Что поделаешь, начитан литературы, в том числе и специальной. Лена увлеченно слушала, интересно ей было, попрыгунье: и чего там дальше, и откуда он про диплодков знает, и зачем они кому-то нужны, и какую чушь он будет травить на очередном перерыве. Леша знал, чего травить и на второй переменке, и на третьей, и на пятой, и на сто шестой... Он решал ей тригонометрические задачки. Извлекал биквадратные корни. Конечно же, писал сочинения, мастер был лишних людей описывать и образы раскрывать. Лена благосклонно принимала знаки внимания. А чего ей, шустрой, отказывать? Сложное это дело, лишние образы да биквадратные корни. Сели они как-то за одну парту. Так и просидели до конца года, и говорили уже о вещах иных, почитай, интимных: кто какие кинофильмы смотрел, кто на море бывал, каких зверей любит и каких педагогов боится больше других. Лена открывала душу, рассказывая, как она обожает клубнику. Смурнов делился тайной, жалуясь на ссоры родителей. Оба хотели прочитать книги, которых не продавали. Оба верили, что жизнь на земле через энный промежуток времени будет благостная – ну не совсем чтобы коммунизм, однако все равно несравненно здоровская... Оба открытничали, признаваясь в нелюбви к химии. Лена снилась исключительно в купальниках или без. По знающим рассказкам он представлял, что обычно нормальные мужчины делают со своими женщинами. Так-то вот. Он хотел всего. С доброглазой и длинноногой девочкой Леной, шагающей по его снам в пятнистом купальнике. Любовь, думал Смурнов. У меня. Это ж надо такому, чтобы у меня – любовь, большая и на всю жизнь (он всерьез мечтал на Лене жениться). Ревновал свою резвую сожительницу по парте к одноклассникам, прохожим, молодым учителям и городским тополям. Разумеется, ревновал к ее брату и домашним рыбкам. Мучился, когда не видел. С трудом жил, когда она болела, или когда сам болел, или когда пришли весенние каникулы. Не сомневался, что умрет без нее, упадет и не встанет, а может, утопиться, повесится, или еще что-нибудь натворит. Они виделись только в школе. На очередной перемене опять говорили о жизни советской нации и вчера виденной по ТВ детективной киношке. Лена все чаще улыбалась. Смурнов все чаще мучился, ибо видеть Лену видел, но хотел большего. Наверное, несчастная любовь, определился он к середине апреля. О несчастной любви молчал, как партизан под ножом эсэсовца. И папе не сказал, и маме, и седой классной руководительнице, и проворным школьным товарищам, и толстому директору школы, и дворовому хулиганью, и даже первому секретарю обкому КПСС не вымолвил ни словечка. А они не больно-то спрашивали, папа, мама и первый городской коммунист. Конечно, он ничего не произнес Лене. Неудобно как-то. Жить не может... господи-то: повесится, утопится, рассудком, наверное, того. Как можно? Вот-вот – и ходи потом засмеянно-недопонятый. Она не подозревала, если глупая. Или чувствовала, если объявилась на свет достаточно умной. Он ведь не поцеловал и не ткнулся в нее носом, и даже не повалил на землю в школьном саду. Не дотронулся до ее ног, рук, до лица, до Лены – прямо там, на школьной траве. Ни на ковре, ни на диване, ни в параллельных мирах – нигде. Не пытался встретиться с ней во внеучебное время. Ревновал нечеловечески: а с кем, интересно, может она встречаться в часы, свободное от него, от учебы, бесед с мамой, походов к врачу и визитов в булочную? Он заметно отстал, после девяти лет четверок начал получать тройки. Ай-ай-ай, журила его добрая женщина завуч. Ну и ну, шелестел отец. Вот-вот, твердила бабушка. А что такое, гомонили одноклассники. Мм-да, утверждал учитель физики. Вот еще, не понимала родная мама. Позднее он так радовался, что спасся от сумасшествия и снова стал учиться на четыре, так радовался – чуть в Господа не поверил, коего сочинили хитроумные попы для издевок над темным людом. Но остался комсомольцем. А спасся от сумасшествия очень просто: родители Лены перебрались в Зеленоморку, и Лена вместе с ними. Писем ему не писала и не залетала на огонек. Жила в своем вонючем пригороде, и нос не казала. Смурнов чувствовал, что это лучший выход, и даже больше того – единственный выход от перспективы недалекого сумасшествия. Юноше остались упоительные поллюции, а потом вместо Лены стало сниться другое – черное, белое, красное, через какое-то время начали сниться и другие женщины, но школу он завершил. На четверки, пятерки и с единственной тройкой по химии. На факультет поступал, электротехнический. Был такой в ближайшем от дома вузе. Математику сдавал, треклятую физику и любимое сочинение. Потом божился, что пошел бы на филфак – стал бы гением. А так он получил диплом инженера, и засел в проектную контору решать народно-хозяйственные задачи. Контору потом сменил, народно-хозяйственные проблемы остались. Когда экзамены сдавал, чуть не умер. Проходными, как выяснилось, оказалось тринадцать баллов, с двенадцатью принимали по собеседованию. Таланты Смурнова позволяли не мучиться: сочинение – это сочинение, физика принесла в школьный табель четыре балла, алгебра – пять. Невзирая, дрожал мелкой дрожью. Без вкуса ел, плохо спал, перестал получать удовольствие от летнего воздуха и зеленых посадок. На первый экзамен пришел в костюме и галстуке, при часах, в сопровождении семенящей мамы. Порешал задачку на ускоренное падение, рассказал, чего мог, о магнитных свойствах, ловко ответил на лишний вопросец из области амперов и вольтов. Задачку порешал не так ловко – ответ не сошелся с истиной. Ну что, парень, сказали экзаменаторы, знаешь ты немало о правиле буравчика, и об амперметрах наслышан, видим, и о конденсаторах. Знаешь ты, пострел, как силу тока извлечь, и куда сей ток течет, тоже догадываешься, и зачем течет – не знаешь, но мыслишь верно. А с падением брошенного вверх тела, брат, нескладуха у тебя вышла. Не так, брат, тела-то падают. Хреновый у тебя ответец, сынок, мы бы даже сказали, в корне неверный. Не учел ты, наивняга, силу броска, и направление по косинусу мимо ушей пропустил. А смотрика-ка, молодой человек, чего в условии написано. Посмотрел он, чего написано, побледнел, позеленел, думал – закопают. Но ему поставили оценку "четыре" и пожелали стать матерым электротехником. Мама приняла судьбу как заслуженное, а папа изрек, что города берутся не иначе как смелостью. Сосед Виталий по случаю радостного дебюта выманил у Смурнова все деньги на пиво. Пили долго, потом Смурнову стало плохо, а Виталий грустно сказал: так и быть, слабак, выпью за тебя. Смурнов поблагодарил и вышел. Спал до утра, через два дня на отлично раскрыл сущность Обломова. Математику сдал на три и подумал, что лучше бы ему не родиться. Как жил, что делал, как выживал – не помнил напрочь. Думал, разумеется, что кранты. Жевал сосиски с макаронами, бродил по улицам, пугал местных голубей и чувствовал, что кранты. Как только жевал, ходил, пугал, как с мамой беседовал, с отцом толковал и бабушку слушал – самому неведомо. Днем валился от сонливости, ночью не мог заснуть. Возбужденно суетился в комнате или часами лежал. Наконец вспомнил, что можно с кем-то пособеседовать и взять свое, отбив у природы законное место на электротехническом. До института сумел доехать, всего три остановки, пять минут. Троллейбус полупуст: работящие разъехались, остальные просыпались, одевались, чистили зубы. Он выстоял в нелюдимом салоне, выпрыгнул почти напротив вузовского крылечка. Прошел метров тридцать. Открыл. Зашел в здание. Дверь не придержал, она хлопнула. К лестнице. Поднялся на третий. Дороги не знал. Нашел сразу. Комната носила номер 323. Подождал сорок четыре минуты. Его позвали, и Смурнов ступил в студенческую аудиторию. Зачисление он вспоминал как лучший день сознательной эры (в бессознательной все было намного ярче, там были светлее и радостней, и не дни – недели, месяцы, годы). Даже первый секс с Катей, и второй, и третий, и четырнадцатый секс с той же Катей, и диковатая женитьба на ней – не шло в сравнение. А с рассветом жизни не хрен разную канитель сравнивать. Утренняя заря и есть утренняя заря.
4 Вечером его покормили. Зашел конвоир из четверки радостных и утешил на земном языке: мол, не дрейфь, мужик, перемелется все, чего уж там. Когда со мной разберутся, сказал просительно. Не дрейфь, не дрейфь, похохатывал веселый, вот и жратва тебе, чтоб хорошо себя чувствовал. Наградив узника порезанным хлебом, он отдал ему тарелку с лапшой и протянул погнутую вилку. Затем подвинул кофе, вырвал исписанные листы и сгреб их в большую черную папку. Верните, попросил он. Через полчаса вернем, заливался хохотом стражник. Не лукавил: через пятнадцать минут дверь скрипнула и открылась, пропуская высокую девушку в мягких тапочках. Бесшумная положила исчирканное и вышла, без лишних слов, лишних жестов. Без лишних, должно быть, мыслей. А Смурнов лежал и не спал. А может, и подремывал, видел десятый сон или медитировал на особый лад. И виделись штуки странные, неземные... Итак, сказала медуза Горгона, разливая водку по мелким рюмочкам. Итак, сказал римский легионер, ковыряя коротким мечом занозу. Итак... Полудурки скучные, я буду говорить! – заорал Кот в сапогах, трогая сиамскую кошечку. Итак, сказал Степаныч, наливая водочки президенту. Ну и ну, сказал Валентин Юмашев, выплескивая водочку президента. Вот те нате, сказал хрен в томате, провожая водочку президента. Ух ты, сказал спикер, угледев-таки водочку президента. Ни хрена себе, думали борзописцы и щелкоперы, краем глаза учуяв водочку президента. Вот оно, каркал Ленин на ветвях, наблюдая водочку президента. Ага, загалдели русские фашисты, сапогом помешивая водочку президента. А не все коту масленица, радовались жители Эквадора, когда до них дошла весть о водочке президента. Ха-ха, смеялись летописцы, занося на пергамент отрывочные сведения о водочке президента. Хрю-хрю, говорил народ, слизывая с мостовой водочку президента. А мы и не знали, что на Куликовом поле приключится такая хрень, дивились предки поэтессы Анны Ахматовой. Не знала я, что гренадеры такие слабые, поражалась Катерина Вторая. Не знал я, что Керенский такой поц, размышлял на завалинке Лейба Давыдович. Не знал я, что Бернштейн такая гадюка, всхлипывал Джугашвили. Не знали мы, что Джугашвили такой козел, оправдывались туземцы. Не знали мы, что туземцы такие лохи, разводили руками Сашка Македонский и Буцефал. Не знали мы, что Македонский здоровьем слаб, ликовали подлые. Не знал я, куда кривая вывезет, кричал Господу Бернадот. Не знал я, что Бернадот ссучится, скрипел зубом Нап. А мы знали, хохотали русские крестьяне из романа "Война и мир". Крестьянину что? Не перевелась бы женщина в русских селеньях, а презервативы найдем. Был бы косячок, а забить успеем. Была бы волю, а хомут смастерим. Был бы барин, а дворовой не уйдет. Был бы праздник, отбухались бы в дым по-черному. Был бы повод, а петля под рукой. Была бы свобода, отдали жизнь за равенство. Было бы равенство, умерли за свободу. Была бы колбаса, пировали. Был бы жирок, пошли бы на скотобойню. Была бы война, ушли в пацифисты. Была бы хорошая жизнь, подохли со скуки. Был бы Кафка, а мотыгу найдем. Был бы лох, а остальное приложится. Был бы "кадиллак", нашлись бы и хиппи. Был бы "калаш", положил бы всех. В жизни ведь оно как? Ходит человек, ест, спит, испражняется, ковыряет в носу, мечтает, совокупляется, принимает душ, а потом раз – просыпается однажды утром на другом уровне. Вроде не работал и не накапливал – однако вот тебе, другой уровень. Просветление. Смотришь на прежнюю дурацкую жизнь и заходишься в хохоте... Смотришь на небо и хохочешь: на, возьми меня. Смотришь на дома и хохочешь. Смотришь на людей и хохочешь. Смотришь на зверей и хохочешь еще сильнее. Смотришь на карликов и великанов, на ублюдков и юберменшей, смотришь на больших людей и на родных людей, и на больных людей тоже смотришь. Все они под солнцем живут и по общим правилам действуют. Простые правила-то. Вот и хохочешь, оттого что простые. Смотришь на своих убийц и не перестаешь радоваться. Видишь свою смерть, гладишь ее и хохочешь от того, что плевать. Все будет как будет, даже если будет иначе. Тебя пытаются оскорбить – а ты хохочешь, потому что ясно ведь: никто никого не может унизить по этой жизни, каждый унижает себя сам, по-идиотски реагируя на тот или иной фактор. А ничего не надо, чтобы правильно реагировать или самому создавать благоприятные для самореализации факторы. Нет перехода-то. Надо ходить, есть, спать, работать серую работенку, хлюпаться в ванне, скучать и мечтать, ковырять в носу и дышать мокрым воздухом. А затем проснуться утром с чувством того, что чего-то раскумекал по этой жизни. Один умник сказал, будто Гитлер поближе к Богу, чем, например, Серафим Саровский, чем скучные монахи и добродетельные святоши. Он выходил и излучал свет. Он делился с людьми энергией. Он трахал весь народ, как любимую женщину, и стране было хорошо, как любимой женщине, которую трахает любимый мужчина. Ведь любовь – это энергия, а энергия – это любовь, и не бывает одного без другого. Гитлер в раю. Иисус тоже недалек от Бога. Вряд ли дальше Адольфа. А может, ближе. Но нам тяжело судить о Христе, толком мы о нем ничего не знаем. Никакой информации: так себе, легенды и басни, трактовки и измышлизмы, комментарии и опровержения комментариев. Он мог прийти сущностью, посланной с Альфы Лебедя для развития земного самосознания. Он мог родиться человеком, параноикам и шизофреником: слышать дивные голоса, маяться недержанием воли, идти на смерть как на тульский пряник. Он мог быть жестким парнем и предтечей Великого Инквизитора. Говорил же, что враги человеку - домашние его, говорил, что иногда член надобно отсекать, много чего веселого говорил про геенну огненную и смоковницу. Садист, стало быть? Он мог слыть простым пацифистом, анархистом и хиппи. И наш век щедр на эту породу, и такие нужны. Он мог любить людей. Учить евреев культуре чувств и отрешению от тупой агрессии. Какая цивилизация, если вместо культуры чувств – тупая агрессия? Много забавного о нем можно прочесть у Ницше и Достоевского, у Ренана и Булгакова, у Толстого и Пети Васечкина. Много чего можно напридумывать самому, благо поле распахано, но поле широко. Мы все равно о нем ничего не знаем. (Здесь правильно отложить, достать стакан, отвинтить и выпить. Чем больше, тем любопытнее. Иначе проблемы. Принцип тантры: пей, пока не упадешь, а потом поднимись и добавь еще, а потом опять поднимись, а потом тебе Господь-то и воздаст по заслугам.) Давайте, ребята... А давайте про пот и слезы трудового народа? А давайте запоем песню, русскую народную, задушевную, удалую, чапаевскую, чтоб ушки тряслись и ноженьки в пляс пускались? Чтоб рученьки по коленкам хлопали? Чтоб в головушке зазвенело? Чтоб хвостик закручивался? Чтоб в животике забурлило? Чтоб рожки упоительно задрожали? Есть, ха-ха, возраженьица? Же не компран па, сказал Мазарини. А мы козла за такие речи на Соловки, пусть понюхает козел ледовитое море, пусть расчухает, козел, что и как, и по каким правилам... "А то!" – сказал Соломоныч. Вылез из норы, обнюхался, почесал тыковку, и ну частушки наяривать:
Вновь жиды спасли Россию, Ай да молодец – профессионал, знать, частушечного дела. Учился, наверное, долго, в Оксфорде пропадал, в "плехановке" водил хороводы, в Гарвард ездил на стажировку, а в Латинском квартале отсыпался. Курил там наркоту, спал с нерусскими. Крякнул Соломоныч, закусил удила и выдал:
Эй, братан, давай попробуй Долго и несмолкающие, переходящие в овации и долгие поцелуи, в фуршеты и в кабинеты, в шведский стол и в шведскую любовь, в русскую баню и во французское подполье. Лавры поэта Соломоныча не давали спать, не давали есть, мешали ходить и заниматься любовью. Вышел тогда юноша бледный со взглядом смущенным и произнес свое:
Мы наглядно время убивали Ему тоже рукоплескали, но чуть потише, чем Соломонычу. Он продолжал:
Атрибут божественности бога Все задумались. Юноша удалился в гордой тишине и одиноком покашливании. Выбежал на сцену мальчик и прошепелявил детские необузданные стихи:
О мои океаны и реки, Мыслей отмирающий клок: Пацаненка унесли на руках, в дороге закармливая леденцами и шоколадками. Мальчик отбрыкивался и чмокал, а его в десяток рук гладили по голове. А вот наконец-то вышел сельский дурачок и порадовал:
А в лесу живут серые волки, Сельского дурачка осторожно выслушали, вежливо похлопали, закрутили ему руки за спину и проводили в поселковый дурдом. Суть в том, что дурачишка был не простой, а маниакальный: пырнул ножиком семерых человек и пошел стихи декламировать. Но мудрые правоохраниетели знали о его пагубной страсти к музе. Не ушел бедолажечка далеко, загубило его сочинительство. Залетел на огонек Святой Дух. Материализовался, как положено. И давай свое гнуть.
Отсвистав на горе, И растаял. А вот и романтичная девушка в рваных джинсах. С боем прорвалась она к сцене, когтями и штыками, зубами и ножами, вилками и ложками расчистила себе путь. И летели от нее мужики вверх тормашками, кричали и плакали, и молили о пощаде слезливыми голосенками. Но не жалела отчаянная сильный пол. Презирала якобы сильных. Романтичная сказала, что будет на потребу народа стих читать. И топнула ногой в рваной джинсе, чтоб заткнуть крикливых, унять шумливых и успокоить изрядно буйных. Наступила звонкая и тонкая тишина.
У побережья льдистого моря Я видал пресловутое Третье, Я видал процветающий город, Места хватит под солнцем многим Я смотрел, как обедают люди От рождения все свободны, Что достигнуто – то убито, Мне занудна победа счастья, Ха-ха-ха, смеялась романтичная девушка. Не поняли, полудурки? Да ладно, махнула она рукой. Во втором ряду заприметила нормально одетого юношу, остальные одеты хоть и дорого, но не в стиль. Он одет хоть дешево, но нормально. Остальные-то щеголяли фиолетовыми носками на фоне белых костюмов, красными майками под серыми пиджаками, тренировочными штанишками и золотистыми побрякушками. А он и профилем не дебил, и анфасом не выродок – такая вот редкость. Выбрала юношу, сказала ему просто: ты мне нравишься. Спрыгнула с высоченной сцены, прошлась по головам, отдавила кому-то хвост, схватила моложавого за руку. Увлекла к выходу. Вышли они в ночь, сели в синий BMW романтичной девушки и поехали по своим делам. И вышел старец. Представился пред почтенной публикой. Поклонился ей до земли. Отшвырнул старенькие гусли, скинул жаркую куртяшечку, прочитал ностальгическое.
Россия – родина слонов И настежь северным ветрам Тебя так трудно позабыть, Зал притих. Старца вежливо проводили до катафалка. И пошла плясать губерния! А затем началось. Многие сошли с ума на конечной и не вернулись. Меньше народу – больше кислороду, как поговаривал хан Кучум. Больше народу, больше веселухи, хохотал Генрих Гиммлер. Больше козлов, хоть шерсти клок, говаривал Джон Мейнард Кейнс, по слухам – большой экономический умник. Больше народу – шире электорат. Больше народу – ломовее прикол, думал Распутин. Больше народу, обильнее кровушки, облизывался Малюта Скуратов. Больше народу – сильнее армия, больше шансов побить соседей и установить на Земле мировое господство. Мировое господство – это то, чем закончится. Мировое господство – это то, к чему вели даже проселочные дороги истории. Мировое господство – это то, чем завершится чье-то страдание. Мировое господство – это то, что оправдает многое, если не окончательно все и всех. Мировое господство – это то, что достанется кому-то из людей. Мировое господство – это то, что плачет и ждет своего обладателя. Мировое господство – это то, что хочет отдаться, только протяни руку. Мировое господство – это то, ради чего Господь позволяет вам творить богохульство. Мировое господство – это то, ради чего неизбежно пустят в распыл пару миллиардов лишних людей. Мировое господство – это то, чего должен хотеть каждый. Мировое господство – то самое, которого не хотел Алексей Михайлович Смурнов, инженер тридцати двух лет от роду.
5 Долго ли, коротко ли, а закончилось халявное институтское времечко. Он научился спать на лекциях, употреблять алкоголь и потерял девственность. Он перестал бояться взрослых людей и по ряду признаков перестал считаться ребенком. Он прочитал Ленина, Маркса и Энгельса. Достал редкостную книжку Льва Гумилева. Вот, пожалуй, и все. Нормально, как говорила бабушка, не хуже среднего. Работалось так: в комнате стояло пять столов, он сидел у стены. На столе лежала чистая бумага, ее следовало испещрить умными черточками и сдать куда надо. Правила составления черточек он знал, научен за пять лет. Комнату делили с ним двое мужчин и две женщины: были хлопцы предпенсионной поры, а дамы бальзаковских где-то лет. Звали тружеников Наташа, Аня, Петр Николаевич и Тимофей Эдуардович. И не приведи Господь назвать левую соседку Анной Ивановной! Наташу можно было величать Поликарповной. Она была старше Анечки лет на десять, и добротно перевалила в июне за сороковник. Кипятили чай, чавкали бутербродами, размышляли о дефицитных товарах. В рабочее, как положено, время. Обеденный перерыв улетал на осмотр торговых точек. Они подсобляли друг другу, как могли: занять очередь, отнести тяжелые сумки, сготовить юбилейный обед на десять персон, добавить лишние руки в переделке жилья. Дни рождения отмечали, сдвинув столы. Засевание огорода или первый плод праздновали коллективным приглашением на делянку. Если ссорились, то по мелочи. Если радовались, то с оглядкой на коллектив. Одним словом, семья. Даже бутербродами делились без жалости, по-родственному и по-товарищески, по-нашенски и по-свойски. Петр Николаевич родился на свет некурящим, да таким и прожил. Любил он прихлебывать минералочку и рассуждать о вредном веществе никотине, о том, как эта мерзость вредит мужскому здоровью, не говоря уже о здоровье женском и детском. Тимофей Эдуардович пыхтел сигаретой, пуская светлый дым в потолок. Ты слабоволен, говорил ему Петр Николаевич, ты раб своей пагубной страстишки и треть века притворяешься, что бросаешь. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет, хихикал Эдуардыч. Ты переводишь серьезный разговор в плоскость шутки, серчал Николаич. Ты мне аргументировано докажи, чего там нужного в веществе никотине. Докажи и докажи, пыхтел Эдуардыч, не Эвклид я доказывать... Николаич делал вид, что сердился. Хмурился, щурился, двигал бровями. Повышал голос. Может, вправду за живое брало? Анечка делала вид, кто мирила большую ссору. А Наталья Поликарповна говорила, что все нормально, мужчины, мол, всякие нужны, и всякие важны, и курящие, и некурящие, все интересны, кроме, разумеется, алкоголиков. Вот мой муж как раз алкоголик, продолжала она. А дальше было неистово: и десять минут, и двадцать, и три часа подряд могла говорить Наталья Поликарповна о муже своем, алкоголике. И такой он у меня, и сякой, нажрется как свинья, ох, скотина, ох, сукин кот. И нет мне сладу с ним, люди добрые. Уж такая он свинья алкогольная, спасу нет. Детей родных на водку бы променял. Да нет, слава богу, такого места, где б моих детей на водку меняли, Митеньку да Егорушку. А так бы сменял, козел окаянный... И гвоздь в доме ему заколотить несподручно, мусор вынести не с руки, грядку прополоть не с ноги, и чего умное сказать не с ума. Глупый он у меня, ох, глупый. Не знает, тупица, кто такой Фидель Кастро, думает – певец ненашенский. И задачку сыну решить не может, за восьмой класс. К подруге хожу думать, как там яблоки с грушами развезли по трем магазинам. Вместе уравнение соображаем, дискриминант берем. С мужем даже дискриминант не возьмешь. С мужем картошки не окучишь. На базар не сходишь. Ребенка на него не оставишь, а то начнет на водку назюкивать. Где я только нашла его, паганца облупленного? Были ведь нормальные мужики. А я вот пожалела его, собаку, да и красив он был, ох, красив, на Ален Делона похожий. Изгадил жизнь, говорила она, ударяя голосом на слове изгадил. А сейчас что? Гвоздь не забьет, в театр не позовет, на восьмое марта кедровую шишку подарил и сказал, что я такая же. А раз я у него кедровая шишка, то не хрен мне праздники отмечать. Работать и работать, стирать да гладить, ужин готовить на четверых, сопли подтирать за мужем с детишками. Я ведь в Париж хочу, честной слезой рыдала Наталья Поликарповна. Или просто на море. Так разведитесь с ним, дружески предложил Леша Смурнов. Что?! – взревела Наталья Поликарповна, как самолет на запуске. Развестись?! – негодовала добрая сотрудница. Молод ты, кричала она, родных людей разводить. Поживи с мое, кричала, потом советы давай. Хлебни лиха, тогда умничай. А то яйца курицу учат. Да я что, я ничего, оправдывался молодой Смурнов. Я так, добра хотел. Добра?! – разъярилась Наталья Поликарповна. Хватит врать-то, молодой, а такой же! Мне в этой жизни никто добра не хотел и хотеть не будет, заявила она. Меня мама предупреждала, а я, дура, сразу не поверила. Ох, дура-то... Ну не надо, просил Николаич. Ребята, давайте жить дружно, твердил Эдуардыч, подражая коту Леопольду из мультсериала. Наташ, да ладно тебе, махала руками Анечка. Смурнова нехотя, но простили. Все вы горазды, бурчала взрывная, но отходчивая Наталья. А как на оглоблю – так шмыг. Рьяно обороняла Смурнова тридцатилетняя Анечка... Слишком рьяно для поддержания чувства локтя, и привиделось мечтательному Смурнову: не есть ли тут другое чувство, великое и прекрасное, поэтами воспетое и прозаиками не обойденное, простое и сложное, в обиходе известное как Любовь? Случается такое промеж мужчиной и женщиной, чего уж там: и возраст тут не помеха, и мораль, и всякие такие семейные узы. Ну не любовь, может быть, эва куда загнул... ну, желание, скажем так, что не так здорово, конечно, помельче будет и поскромнее, кайф не тот, но тоже ничего, тоже не пустота, хоть и не любовь. Думал и гадал Смурнов, а чего бы ей не влюбиться, он же симпатичный, образованный, покручее Николаича с Эдуардычем. Анечка старше на семь лет, ну так пустяки – взрослым людям не помеха, это в детстве разница, а потом пустяки. Правда, бытует правило, что мужчина должен быть повзрослее – по жизни такое правило, ну да мир испокон веков нехило стоял и на исключениях. Ему ведь целых двадцать три года. Анечка родилась рыжего цвета. Носила брюки и темные свитера, ярко крашенные губы и улыбку в уголках рта. Когда улыбка смелела и растекалась по всему лицу, получалось слегка вульгарно. Но что коллеги понимали в вульгарности? Им даже расхохотаться слабо, а уж ответить тонкой улыбочкой просветленного – вообще не в жизнь. Смурнову тоже нравилась анечкина улыбка. Он хотел обладать и улыбкой, и яркокрашенными губами, и всем, что таили темные свитерки и волнительно скрывали черные брюки. Разумеется, это ничем не кончилось, потому что ничем и не началось. С Катей-то было проще, она сама его изнасиловала. У себя дома. Вот она, халява-то. На втором курсе родного электротехнического. А на третьем они расстались. Сказала девушка, что зануда он, муторный и неинтересный, хрупкий и ломкий, неспособный на страшное и на нежное, предугадываемый на десять шагов вперед, видимый на двадцать шагов назад, вообще какой-то просвечиваемый: вот его сегодня, его завтра и его вчера – и нигде нет истории, нет тайного, нет веселого, нет загадки, нет дела, нет поступи, нет сути, нет неординарного, нет неожиданного, одним словом – нет судьбы. А зачем полноценной женщине мужчина, у которого нет Судьбы? Зарыдал тогда Смурнов горючими слезами, но ничего не сказал. А что говорить? Доказывать, что была у него история, что найдется у него суть и еще отыщется дело? Глупо это. Смешно. Черта с два ты женщину убедишь. Не берут ее силлогизмы, афоризмы как от стенки горох, доводы на смех, логику в овраг – а как женщине без доводов растолковать и без логики убеждать, Смурнов не ведал и не догадывался. Глотал свои слезы горючие и молчал, а времечко на часах стукало, а Катя надела плащ и ушла в осеннюю погоду. Через пять минут за окнами пошел дождь, резво бился в стекло и нагло заигрывал; а Катя, должно быть, мокла на улице, а он, должно быть, сидел и смотрел, то ли в себя, то ли на заоконную свежесть, то ли на желтые корешки нечитанных книг... (Ему суждено было полюбить дождь. Через время. На роду написано, что полюбит дождь, никуда не денется, не уйдет, карма у него такая, – вот и пришлось. Полюбил его в третьем тысячелетии от рождества Христова, дожил, как ни удивительно. Хоть и сломал голову за девятьсот восемнадцать дней до того.) Долго помнил желтые корешки, но книги не прочитал. Книги те были издана для детей и подростков, рассказывали о злобствующих пиратах и кокосовых океанах, о правильных рыцарях и фантастических дамах, о нервных грабителях и грязных клинках, о марсианах и бластерах, о людоедах и гномах, о хороших ребятах и плохих парнях, о зверях и птицах, о слонах и тиграх, о веселых скитальцах и простых людях, а также о чуток диковатых, но неизменно добрых аборигенах. Была в те годы такая библиотека для юношества, как же не быть? Не виделись, не перезванивались. Не слали друг другу факсы, не контачили телепатически и тем более не общались по Интернету, коего еще не водилось в их городе и на их планете. Правда, вспоминали друг друга, уж он-то точно, а вот она – вряд ли; говорила, конечно, что вспоминала, но скорее всего врала: по привычке или от хорошего настроения, но врала. В девяностом поженились. Пока еще молодые и счастливые, Смурнов и его первая девушка. Бывают же чудеса. Хана без чудес-то. Должен дурачок хоть во что-то верить? А ему хоп – чудес-то. Вот и верит, радостный. Умный человек на такой крючок не подманится. А зря. Потому что чудеса – бывают. Их очень много. Катя ведь сама позвонила через пять лет. Зря, конечно. Но важно, что чудеса приключаются сплошь и рядом. Можно идти по улице и встретить волшебника. Ты никогда не поймешь, что это волшебник. Ты будешь думать, что это старик-пенсионер или грязный вонючий бомж, а он не убьет тебя мыслью из жалости к слабоумным. Можно идти по улице и встретить будущего президента России. Он тебе улыбнется, а ты решишь: во, блин, параноиков развелось. Можно идти по улице и найти кошелек с двадцатью тысячами немецких марок. А можно набухаться с соседом и узнать, что это он завалил симпатягу Кеннеди. Наконец, можно выйти во двор и увидеть там резвящихся динозавров. Можно поговорить за жизнь с дикарем и стать просветленным. Можно деревяшкой рыться в навозе и вырыть себе философский камень. Можно в тридцать лет перекатной голью шататься по кабакам, а потом узнать, что ты вождь лучшего на земле народа. Или быть шофером такси, а затем стать хозяином доброго банка и славной телекомпании. Можно быть научным сотрудником, а затем стать не только хозяином банка и телекомпании, но еще и нефтяной отрасли. Можно не быть научным сотрудником, а все равно стать хозяином нефтяной отрасли. Можно за правильное общение купить алюминиевый завод, ценой в миллиард, и, конечно же, не рублей. А можно за дружеское общение купить никелевый завод, который стоит дороже. За правильное общение можно даже приобрести президентский пост. Было бы желание. Можно уйти в иные миры и вернуться богом. Можно просто уйти в астрал, если надоело. Можно просто уйти, и это не так плохо, как кажется. А нудные и рассудительные долдонят: чудес, мол, нет, перевелись на святой Руси кудесники. Святость вот перевелась, но это временно, неопасно и быстро восстановимо. А чудесников хватает, под каждой елкой на Руси чудеса. Нет только Бабы Яги, Змея Горыныча и Кощеющки. Не дожили удальцы. А жаль. Погуляли б на свадьбе Алексея Михайловича Смурнова и невесты его Катерины, а затем и двинули в нефтяную отрасль... Смурнов же после женитьбы остался в конторе, за письменным столом у стены, на государевых харчах и в окружении верных сподвижников. Оставалось ему вкалывать в проектном учреждении год и три дня.
Полный текст:
Опубликовано впервые
|
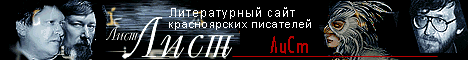 | |||||||
Редактор - Сергей Ятмасов ©1999 | |||||||