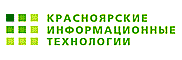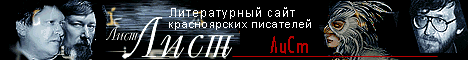Гамлет АРУТЮНЯН СВЕТАЕТ стихи из сборника ЯГОДА "Ay!" - кричу я,
но в ответ-
лишь сосен бег
и солнца свет. Черника-девочка,
со зла
меня ты в чащу
завела? Меня ты по лесу
кружила
и как цыганка
ворожила. "Ayl" - кричал я,
но в ответ-
лишь сосен бег
и солнца свет. ТАБУНЩИК Каждое утро, из года в год,
старый табунщик к загону идет. Старый табунщик, шрам на челе.
Лучшие годы прожиты в седле. Кони копытами бьют у ворот.
Утро торопится. Солнце встает. Степи, настоянные на полыни,
сердце табунщика полонили, и оттого прикипел он к коням...
- Послушай, Василий! Пора выгонять! И растянулся табун вереницей,
в нем жеребята и кобылицы, а впереди вороной вожак
гордо чеканит в галопе шаг. Старый табунщик, шрам на челе.
Лучшие годы прожиты в седле. СТИХИ ПРО СТАРОГО ЭВЕНКА Алитету Немтушкину Все трудней эвенку настигать оленя.
Старому эвенку из старого селенья. Что не жить эвенку в рубленом дому?
Говорит с усмешкой: - Сам я не пойму! Все-то мои ноги тундрою ходили,
Все-то мои руки зверя сторожили. Настигали метко пули из винтовки.
Вспоминать об этом мне теперь неловко. И врага на фронте я на мушку брал,
Раз попал в прицел мой даже генерал... Есть и дом хороший.
Он для сыновей.
Старому эвенку в чуме здоровей. Костерок затеплит. Вновь раскурит трубку.
И к костру протянет высохшие руки. * * * Предутренняя маета
вдруг ясной стала и понятной.
Я что-то не сказал тогда,
а что-то высказал невнятно.
И шли мы. Словно кто другой
вот так же шел, и все смеялся,
и смех тот тихо растворялся
и растекался над рекой. o
А по задумчивой реке
спускались тихо теплоходы.
Твоя рука в моей руке -
казалось, так пройдем сквозь годы.
Но это только все казалось.
Река туманом покрывалась.
Твое лицо светлело еле.
Нахмурившись, стояли ели.
И сумерки скрывали нас. * * * Любовь - магнитное поле.
Я - север, ты - юг.
Возникла она поневоле
под действием вьюг.
Северная антенна
сигнал приняла тревожный,
радист первоклассный Гена
выпалил: - Сколько же можно?!
Признанье в любви по рации-
Не тема для разговора...
Но слышалось: "Навигация...
Мы встретимся скоро!
Люблю тебя. Мне гадалка…
(Точка. Тире. Запятая…)
- Север, ты что растрепался?-
вмешался радист с Алтая.
- Будь мужиком - путь к победам.
Ты им, дурам, не верь!
Пусть за тобою следом
мчится, коль любит, - теперь.
"Юг, вызываю юг".
Но тишина засквозила.
Хиус с морозом - лют.
Избушку опять заносило.
Снег. Первоклассный снег
Северной стороны.
Сколько, скажи, тебе лет
лежать и не знать весны НА ПРОСПЕКТЕ Длинноногие женщины
ступают, как цапли,
по проспекту,
где все переплетается:
обрывки фраз,
шуршание шин,
шипение реклам (как яичницы),
стук каблучков
и шарканье подошв,
щелканье зажигалок,
чирканье спичек,
звон монет у телефон - автоматов...
Объявление предупреждает:
Придерживайте двери.
Проходит месячник
по борьбе с шумом.
Нарушителей штрафуют
примерно так же,
как "зайцев" в общественном транспорте,
даже придумали аналогичную кличку-"глухари".
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО БОРЕТСЯ С ШУМОМ!
А все равно на проспекте шумно,
и длинноногие женщины
отважно ступают,
как цапли. * * * Даже обратная сторона Луны
ныне доступна.
Причудливая машинка
сновала меж лунных кратеров.
А человек, эта земная бабочка,
залетел туда,
где еще не ступала нога человека.
Я иду по проспекту,
мы тысячу лет не виделись.
Наверно, прошло не меньше
с давнишних, невзрослых дней.
Теперь я мужчина. Не скрою,
я много освоил профессий. Месил тяжелой лопатой
на стройках страны бетон,
был рыбаком и охотником,
в общем, прилично стреляю,
к тому же владею самбо,
рисковые игры люблю.
А мой апперкот, если надо,
уложит любого... Вот так.
И вот я иду по проспекту:
мы тысячу лет не виделись.
Чем ближе твой дом, тем сильнее
дробь барабанная сердца.
И вот я уже не мужчина.
Я снова тот робкий школьник.
И только твой дом с балконом
притягивает меня.
Но что может робкий школьник?
Часами стоять у балкона
и ждать, когда выглянет девочка
с той стороны луны. ГОРАЦИО Столько в жизни декораций,
так события лихи.
Ты прости мне, друг Горацио,
недомолвки и грехи.
В поле, что ли, далеко ли,
в горы, что ли, далеко ли,
к морю, что ли, далеко ли -
наши помыслы чисты!
Что же делать, друг Горацио?
Я устал от маеты.
В Эльсиноре мне не спрятаться
нет злословию конца.
Шлю тебе, мой друг Горацио,
и посланье, и гонца.
Я устал себя терзать
и одно теперь мне снится...
А проснусь, все те же лица -
нет отца и всюду мать.
Нет Офелии, хоть рядом
словно тень, ее душа.
Вот она проходит садом
(я стою, чуть-чуть дыша).
Вот она прошла, садится,
говорит сама с собой,
бедный разум стал темницей,
говорит...
И в сердце боль.
Все кругом мне льстят речами,
убаюкивают смерть.
Дышат комнаты свечами,
выйдешь к морю - лунный свет.
Свет полночного светила,
шорох птиц и тень отца.
Неужели это было -
от отца лишь тень креста.
Грустно мне,
мой друг Горацио,
Говорю, а в сердце боль.
И уже нам не склоняться
голова над головой.
В поле, что ли, далеко ли,
в горы, что ли, далеко ли,
к морю, что ли, далеко ли... ФОТОГРАФИИ Фотографии, если они в летах,
имеют привычку желтеть,
сворачиваться трубочкой,
совсем как осенние листья.
И в результате
мы, стоящие у самых краев
фотографии старой,
приблизились друг к другу
так близко,
что я ощутил рядом
твое дыхание,
а твои губы оказались
на расстоянии поцелуя.
Но в это время
кто-то развернул фотографию,
и мы снова, как много лет назад,
очутились у самых краев ее.
И этот кто-то
долго смотрел и не узнавал нас. ФРОНТОВАЯ ПАЛАТА Мне снится
больница...
(Что ни разу со мной не случалось).
Больные, как ангелы, - только под одеялами.
Им трудно летать, проник в них недуг
и в добрых глазах появился испуг.
Я - доктор.
(С каким наслаждением содрал бы с себя
я халат накрахмаленный
и стал бы мальчишкой,
свободным и маленьким,
А после бы заново вырос,
стал сильным и грубым
и лес бы валил,
как валят его лесорубы.
И жил бы, не ведая боли людской...)
Но ангел один прошептал мне:
- Братишка! Постой! 2 Я - доктор!
Обход в сорок пятой палате.
Тревога и страх
у больного во взгляде.
Он славный мужик,
воевал за Отечество
и все-таки сник,
ведь болезнь его
плохо лечится.
И душу мою наполняют
сомненья и слезы.
Один инвалид
перешел на угрозы.
Он долго ругал перед смертью
жену и Германию
и в тяжком бреду вспоминал,
как под Ельней был ранен...
Простим ему все.
Он честно прожил
и пронес через время
то, чем дорожил
и чем я дорожу...
Спит листва на деревьях.
Я покидаю палату свою
сорок пятую,
и мне в спину вонзаются
взгляды больных
(десять залпов картечи).
И с тревогой медсестре говорю:
- Что же делать, родная?
Фронтовая палата-палата переднего края! СОН МАТЕРИ Долго. Долго я жила.
Горевала. Ворожила.
И войну перемогла.
И тоску перетужила. И осталось в землю лечь.
Ну, а я - живу.
Младший сын погиб за Керчь.
Старший-за Москву. * * * У каждой медали
обратная есть сторона.
У каждой планеты
обратная есть сторона.
У каждого человека
обратная есть сторона.
И только дороги обратной
у человека нет. ПОЛЕТ Стакан наполнен лунным светом,
как молоком.
Ты вспомни, милая, как летом
дышать легко.
Ты вспомни, в нашем изголовье
растут цветы.
И мы с тобой на свете - двое
средь пустоты.
Нас Млечный путь ведет неслышно
сквозь лабиринт.
И неродившийся сынишка
в тебе болит.
Его ты скоро приласкаешь,
прижмешь к груди.
- Ты знаешь, милая?
- Я - знаю!
Тогда - лети. * * * Лодка рассохлась на берегу.
Стану ее конопатить.
После все швы просмолю и проверю,
как она держится на плаву.
И вот я на лодке снова,
по жизни плыву. ПАМЯТИ ВЯЧЕСЛАВА НАЗАРОВА У поэта болит сердце.
Он боль эту терпит с трудом.
Какое поможет средство? Любовь, стихи, валидол? Был поэт тогда в самой силе,
часто думал: - Еще не срок!
И в душе его голосили
сто народившихся строк. Строки к жизни его ревновали
и, когда он глядел в окно,
прямо к горлу его подступали,
сговорившись на миг заодно. И лишь строчка та, о которой
он, возможно, мечтал всю жизнь,
долгим шла к нему коридором
и шептала ему:-Держись! ПОЛНОЛУНИЕ Я никогда не буду на Луне,
а вот она присутствует во мне. Она-то отливает серебром...
А я бледнею. Вспоминаю дом. Она висит над лесом, как желток.
И я желтею. Так-то вот, браток. Горел костер. И полная луна
средь туч нависших стала вдруг видна. И вздрогнул я, а мой напарник сник.
Передо мной сидел совсем старик. - Почти такой же полною луной
пришли однажды, парень, и за мной. И я, собрав все вещи в узелок,
не мог попасть ногою в свой сапог. Суровый, молчаливый конвоир
захлопнул дверь за мною в новый мир. Потом, уже зимой, на Колыме
я часто разговаривал во сне. Луна мне представлялась то женой,
то матерью, погибшей пред войной. Я никогда не буду на Луне.
Зато вот побывал на Колыме. * * * Ветер ломает крылья в полете,
падает птица в темный колодец. Мальчишка увидит, что падает птица,
и к месту паденья сразу помчится. И долго смотреть будет в темный колодец.
И в зеркале странном родится уродец. Он будет стараться, и цепь загремит -
в надежде ту птицу ведром подцепить. Но будет скрипеть журавель безголосо,-
весь скрип этот ветер под небо уносит. Ему не взлететь. Никогда и нигде.
И лишь отражаться в холодной воде. ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ Можно захрипеть,
Как перед агонией.
Взгляд остановить
на треснувшей иконе... Шел мужик по водам,
аки по суху,
а за ним апостолы-
с ними посохи. Несмотря на трещину
в той иконе,
он на лодку ступит
и слова проронит: - Чудо совершилось
хожденья по волнам!
Братья мои милые,
веруйте сполна! Волны, как ступени
цвета изумруд,
От страха и сомнений
ко мне вас приведут. И пошли апостолы...
Да не тут-то было.
Море лица постные
мигом поглотило. И сказал последний:
- Видно по сему,
не бывать наследником
никому. И зияла трещина -
уходила вглубь.
А на суше женщина
прошептала: - Будь! НОЧЬ Прошли крещенские морозы.
Проходит все. И жизнь прошла.
Прошли стихи. Осталась проза -
печаль и горечь ремесла. Кому все это передать,
Когда лишь ветер в стылой роще?
Туман рассеялся. Среда.
Никто не ропщет.
Так-то проще. А может, это алкоголь
витийствует в ослабшем теле?
И вновь проснувшаяся боль
есть признак завтрашней метели? Я в ночь холодную смотрю.
Почудятся шаги. Прохожий...
Я с ним сейчас заговорю...
Но все прошло. И этот тоже. Ему совсем и невдомек,
не ждал он исповеди ночью.
В душе, как в жизни,-все непрочно.
И в воздухе повиснет слог. И лишь бездонна пустота.
И некому сказать: - Прости!
И телефонов глухота,
как "SOS", неслышимый в ночи. Хоть волком вой,
хоть сядь за прозу.
Людей той прозою лечи.
Стою один. Прошли морозы.
И эта ночь прошла почти. ВСПОМИНАЯ ДЕРЕВНЮ КАРГИНО Мои каргинские печали
уже давно ушли на дно.
Протоки наши обмельчали,
лишь по фарватеру - темно.
То косяком,
то в одиночку
ныряют бревна по волнам.
И чаек сумрачные точки,
то здесь проносятся,
то там.
Еще стрижи над самой гладью,
крылом касаются воды.
Еще девчонка рядом - Надя
и ощущение беды. ПИСЬМО ГЛЕБА,
ДОШЕДШЕЕ ДО ЕГО МАТЕРИ
СТЕПАНИДЫ ДМИТРИЕВНЫ
С БОЛЬШИМ ОПОЗДАНИЕМ Мама, твой сын уехал
на северные пески.
В края озерного эха
и тихой небесной тоски. Здесь лилии, как цыплята.
Здесь хитрый гуляет ленок.
Здесь хариус в перекатах
нагуливает жирок. Здесь соболь скользит неслышно,
прячется средь ветвей,
а белка целует шишки,
вся рыжая до бровей. В краю, где песцы и зайцы,
средь карликовых берез,
твои вспоминаю пальцы
и желтую проседь волос. Когда я в забой спускаюсь,
то думаю иногда -
смертельной тоской
отливает тяжелая эта руда. Не знал я. Не знал. Не знаю.
Что стану врагом, как есть.
Что будет статья роковая.
За что и откуда? Бог весть. А впрочем, не надо. Не надо.
Одна ты поймешь и простишь.
Желаю тебе снегопада
под сенью старинных крыш. Привет братовьям и сестрам.
Дай бог, чтобы вырос хлеб.
Вам тоже сейчас не просто.
Прощай же.
Целую.
Глеб.
ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ Антону Адамукасу - Давай, давай, Антоша,
скорее выгребай! -
И весла воду крошат,
и пот бежит со лба...
А волны лодку лижут
и в ней самой - вода.
И серый берег ближе,
и гор видна гряда.
Но вдруг на самый стрежень
выносит теплоход.
Он смело волны режет
и не сбавляет ход.
Там девушки с парнями,
нарядные на вид,
он весь залит огнями,
он музыкой гремит.
- Давай, - кричу Антоше,-
скорее выгребать! -
И весла воду крошат,
и пот бежит со лба.
Глотая жадно воздух,
мы выгребли, смогли!
И плыли в небе звезды
среди нависшей мглы.
И помню, как читали
названье на борту.
- И-о... Иосиф Сталин,-
сказал я в темноту. * * * Сестре Асе Все так же деревня стоит на яру.
Я в этой деревне однажды умру. И будет сестренка белугой реветь.
Подумав, что это действительно смерть. На многие версты тайга и тайга.
И лентой из банта сестренки - река. Помню, с какой-то неведомой силой
сестренка меня, дурака, колотила. Хлестала ручонками мне по щекам.
- Проснись же, проснись. Не бросай меня, Гам! За брата старшого томилась душа,
а брат ее рядом лежал, не дыша. Ёеснушки, как осыпь из бурых опилок,
и съехала кепка на самый затылок. И ветры шальные кустарники гнут,
а души покойников плачут и ждут. Я долго терпел и, не выдержав все же,
Стал хохотать, корчить страшные рожи. И вот уже вместе с "ожившим", со мной.
Кричала сестренка: - Ты не умер. Живой! Но если случится уйти в ту страну,
я вспомню родную свою сторону. Где будет деревня стоять на яру,
где сосны, качаясь, шумят на ветру. * * * В этом трудном пути,
под безжалостной этой луной,
сколько зим впереди,
чтобы я возвратился домой? Ты порою то светишь, то слепишь.
Вот иду я, той долгой зимой.
Как тут путника ты не заметишь?
Каждый столб - часовой! Сколько нас не дошло, затерялось,
позаснуло под этой луной?
Кто ответит? Ведь жизнь - это малость.
Каждый столб - часовой. ОДИНОЧЕСТВО В СИБИРИ Чем дальше, тем ближе...
Алеет восток.
Ты встанешь на лыжи,
когда одинок.
И будет тянуться
тугая лыжня,
и возле Иркутска
ты рухнешь у пня.
А пень в белой шапке,
как дед-лесовик,
ни валко, ни шатко -
снежком угостит.
- Что, - скажет, -
надумал?
Спешишь на восток?
И свистнул, и дунул,
и вырос сугроб.
В холодной утробе
на снежной постели,
я зверем двуногим
усну под метелью.
И майскою тишью
у старого пня
летучие мыши
пронзили меня.
А там, где когда-то
зрачок бунтовал,
подснежник кудлатый
расцвел и завял. ЧУБЧИК 1 Нас в детстве стригли налысо
и было столько слез.
"Ну, папа,
ну, пожалуйста,
ведь я уже подрос!
Хоть чубчик.
Ну, хоть маленький,
хоть несколько волос..."
Машинка больно жалила
не в шутку, а всерьез.
И солнцем прокопченные,
как перышки легки, слетали на пол черные
кудряшки-завитки.
Отец шутил,
как водится:
до свадьбы отрастут.
Икона Богородицы
глядела в темноту. 2 Вот так постригли наголо
когда-то и отца,
и путь пролег до лагеря
в сибирские места.
Там были все подстрижены,
как водится, под ноль -
и русые, и рыжие,
и черные, как смоль.
Шутил конвойный мрачно:
- До срока отрастут...
И времена барачные
глядели в темноту.
Ты был задирист
слишком,
похож на главаря.
Ты стал врагом,
парнишка,
и бог тебе судья. 3 Но вместо бога - "тройки"
решают на паях.
И шлют людишек бойко
В далекие края.
Страна! Куда ты катишься,
Любимая моя?
Встают в твоей сумятице -
ночные лагеря.
Краслаги и Карлаги,
Алдан и Колыма...
Не люди - доходяги,
и вся страна - тюрьма.
Пакгаузы, пакгаузы.
Этап. Этап. Этап.
И хаос, хаос, хаос -
имен, названий, дат.
Зимою сгинешь с холода,
а летом - от мошки.
И голодом расколота
твоя земная жизнь. 4 Рукой отца подстрижены
с братишкою под ноль,
идем под солнце рыжее,
идем под летний зной.
Давно нас поджидают
на улице дружки,
их лысины сияют,
как будто утюжки.
Терять давно им нечего,
им даже невдомек -
они судьбою мечены
и тоже тянут срок.
Конец пятидесятых,
начало перемен.
И галстуки крылатые
звездочек взамен.
И разрешают чубчик,
как взрослому, носить.
И учат, учат, учат
Родину любить. ОКТЯБРЬСКИЕ СТРОКИ Сергею Кузнечихину Я вернулся с холодных полей,
из далеких сибирских пределов.
На деревьях листва поредела
и слышны голоса журавлей. Я вернулся, и что-то во мне,
как в осеннем лесу, изменилось.
Словно в дальней чужой стороне,
ощутил беспокойство и сырость и молчу. За окном тополя оголяет
октябрьский ветер.
Но родная согреет земля,
словно в теплый оденешься свитер. Будет ветер свистеть и свистеть,
и в протяжном пугающем свисте
будут новые звезды светлеть,
и одна надо мною повиснет. |