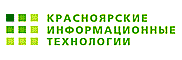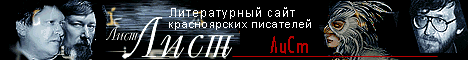| Елена СЕМЁНОВА СТИХИ * * * Ты просишь от меня стиха,
в котором прежний слог утрачен,
и льется красная строка,
как искупленье новобрачной. Тебе неведома тоска.
Но для чего тогда, вдогонку,
ты просишь от меня стиха,
как ждут желанного ребенка? Я грех на душу не брала,
не помышляла и в помине
дарить кривые зеркала
твоей рассеянной гордыне, где ты — совсем уже не ты,
а бабья глупая причуда,
где тлеют желтые цветы
и неоплаченные ссуды, где ночь испуганно тиха,
и каждый вдох — тебе во славу...
Ты просишь от меня стиха,
как будто толику тщеславья. Я не сумею, не кори,
подумай только — как нелепо,
томясь бесправьем, мастерить
твоей души бездарный слепок, и, задыхаясь от тоски,
забыть, что все предельно просто —
ты просишь от меня стихи,
и больше ничего не просишь. РОЖДЕСТВО Вы слышали, как на двенадцатом месяце года
мычит, изнывает и давится снегом природа,
и платит за все легкомыслие юных щедрот,
и студит живот в леденящей купели сугроба,
и хмурый младенец сверлит головою утробу,
и рвется полночного неба разинутый рот?.. Но что ей до боли, от коей — не скрыться, не деться?
Ей нечем согреть своего золотого младенца,
хоть сотню поземок свивай в белоснежный клубок.
О скольких отпела природа в отчаянье женском!
О сколько на небе невспыхнувших звезд Вифлеемских!..
В такое жестокое время рождается Бог. * * * Бесстыжие раздетые стихи,
любимые поэтом и торговкой.
На шею конопляною веревкой
наброшено сияние строки. Бумажный хлам, пригодный только в печь,
отходы быта, жалкие отрепья:
и девственный отчаявшийся лепет,
и женская раскованная речь... Ах, выкормыш, провинциальный кич!
Который год, меня вгоняя в краску,
ложится элитарная замазка
на пролетарский лопнувший кирпич. И четверть века тянется рука
однажды разгадать в кроссворде генов
печальное свое происхожденье,
происхожденье светлое стиха. Я вижу — подымаются со дна
все родовые выверты таланта:
монахиня, шляхтянка, арестантка,
и — рудиментом — верная жена. Я с ними. Я рожаю впопыхах
Налпанисов, Полонских, Городисских...
...Утраченных, окраинно-российских
фамилий драгоценная труха... Но очень скоро предок Иванов,
а он же — и Семенов, и Васильев,
избавит от буржуйского засилья
меня, с охапкой будущих стихов, или цветов, а может — и грехов.
Доколе, до какой черты нести их?
В имперскую? В советскую Россию? –
Мне все равно, где пустят их в расход... * * * Веселою недотрогой,
оскаленною:
— Не тронь!
Я знала — хожу под Богом,
я знала Его ладонь. К обрыву вела дорога,
(всего лишь одна из ста).
Я знала — хожу под Богом,
и знала, что он устал. Лисицей в охоте древней?
Синицей в чужой горсти?
Я знала — настало время
самой выбирать пути. И не было мне предлога
судьбу переждать на дне.
Я знала — хожу под Богом,
не знала, что он во мне, что это шестое чувство,
приравненное к чутью,
заставит поверить в устье
и кинуться по ручью, который отравлен горем,
который иссох в огне,
но все же выводит к морю
и море подарит мне. Оно успокоит ноги,
оно напоит глаза.
Я знаю — хожу под Богом.
Доколе — он знает Сам. И только одна тревога
лежит на душе крестом:
Я знаю — хожу под Богом,
не знаю пока — за что. * * * Страстная неделя
кончается страстной субботой.
О, страждущий странник,
пресыщенный страшной страдой!
Пространное тело —
страна устраненной заботы.
Мне страшно...
Осанна — страницам, закрытым тобой!.. Стравили усталого
с травами, с тропами лета,
стреножили саном
стрелка на вечерней заре.
Стремительна старость.
Строга экономия света.
Острожник, осанна —
последней, в пространство —
стреле!.. АРМЕНИЯ Нам пел Давид.
Его гортань дрожала.
Она бежала, словно от кинжала
и падала опять — кольцо к кольцу.
Он пел.
Благодарение Творцу
и морю — ничего не помешало
дослушать, как Армения поет,
и умереть, как умирает воин,
и захлебнуться с черною вдовою
от слез.
И влиться в траурный народ
своею русой русской головою. Нам пел Давид.
Гортань терзала речь —
неведомая древняя, сиречь —
речная, птичья,
вся — от сотворенья,
мелодия земного откровенья.
Прислушаться — души не уберечь.
На цыпочках в окно ушел прибой.
Армения, довольно потрясений,
твоих миграций, войн, землетрясений!
Зачем тебе еще моя любовь? Зачем поет Давид?
Он строит башню
Давидову
над родиной вчерашней.
Он будет петь, пока продлится ночь,
пока мертва заброшенная пашня.
И кто подскажет — как ему помочь?
Ведь голосом страну не удержать,
и это горло — нет, не из металла.
Усталой птицей в комнате металась
платоновская раненая "джан"... * * * Блуждая взглядом в утреннем окне,
— Что есть любовь? — спросил меня католик.
Ответила, не замечая боли:
— Любовь есть Бог. И он живет во мне. И птицы раскололись в тишине,
и дрогнула в стекло тугая ветка.
Природа говорила человеку:
— Любовь есть Бог. И он живет во мне. Он промолчал. Затем, надев берет:
— Наоборот. Но все равно — напрасно.
Я проследила — ржавчиною красной
у поворота съел его рассвет, где гневную пылающую бровь
Господь вознес над сонной Украиной —
укором вопрошающему сыну
у падчерицы:
— Что же есть любовь? * * * Девочка в дедовом кресле, с поджатою ножкой,
с книжкой, с приютскою стрижкой, с лохматою кошкой.
(Ах, геометрия детства — колено и локоть.
Оба — остры и разбиты).
Она одинока. Дед между строк молчаливо на внучку косится.
Ногтем подпиленным изредка метит страницы.
(Ах, геометрия старости — лысина, стекла.
Круг замыкается смертью).
Ему одиноко. Бывший ЗЭКа и дитя середины застоя.
В их разобщенности столько тепла и покоя,
чудо неясного сходства и тайная жалость.
Знать бы тогда, как немного им вместе осталось... АЗИЯ Горе младенцу,
зажавшему в деснах чужой сосок,
словно пастуший бурятский степной рожок.
Щедрая Азия,
бродит во мне твое молоко,
а во хмелю, как известно, не жить — умирать легко.
Беглым волчонком прижавшись к твоей груди,
я умоляю, Азия, прошу тебя —
пощади!
Мне ли тягаться
в славянской заросли вековой
с верным твоим прицелом, слежкою роковой?..
Горе —
плюющим в колодец небесных глаз,
рвущимся в темный, раскосый, как лисий лаз.
Ибо не всякий пришлый, встречаемый наугад,
суженый твой и боженый
молочный брат.
Горе тому,
чей рот раскроив клинком,
глотку залили доверху — страстью ли, кипятком,
ибо потом, не взирая на светлый лик,
выдашь себя
чередою сплошных улик.
И раздвоясь, как лукавый язык змеи,
чуешь спиною смерть, а лицом —
твои
лживые губы, Азия!
И воздух ловя рукой,
Перемежаешь пространство
нежностью и тоской... * * * Смерть кочует по стране
на слепом коне.
Мы живем спина к спине,
словно на войне. Страх ума не бередит.
Верный переплет
черных крыльев позади
нас с тобой спасет. Перейдя любви земной
светлые мосты,
мы укрылись за стеной
влажной темноты. Твердокаменная плоть
духа твоего
есть души моей оплот —
больше ничего. Не поднять тяжелых век,
слишком сон глубок.
Я — уже не человек,
ты — еще не бог. Как родства апофеоз,
как предел мечты,
одиночество всерьез:
только я и ты. И за счастье жить во сне,
и сгореть в огне,
мы стоим спина к спине,
словно на войне. СЕВЕРО-ЗАПАД Закрою глаза, и ветер сметает явь.
Тот берег, куда не добраться ни в брод, ни вплавь,
куда залетает душа, как к себе домой,
где людям известен пот, но неведом зной,
тот берег — плавник акулий в моем мозгу,
и я никогда расстаться с ним не смогу. Там кто-то стоит на камне. Должно быть — я.
На грубых ботинках — водоросли, чешуя.
В тумане мерцает шхуна, блестит причал.
Я чувствую кроме счастья еще печаль. Рыбак на бегу разводит ладони вширь,
как будто бы хочет обнять не меня, а мир.
Он рыжеволос и тяжел. Его свитер груб.
Но много грубее шагреневый оттиск губ. Его поцелуй я несу домой, как цветок.
Цветов на этой земле не сажал никто.
Он трогает спящих детей, не дыша легко,
а дети у нас белесые, как молоко,
почти одногодки — Герда и Кай. Ведь так
люди на северном острове думают о цветах.
Вырастить жизнь здесь, похоже, нельзя нигде,
кроме как в женском ласковом животе. Мой муж умывается, ест, пригубив вина.
Потом омывает, качает меня волна.
Так шторм забивает в раковину песок.
И пахнет соленой рыбой его висок. Мне снится другая жизнь, параллельный мир.
Не этот, затертый мною уже до дыр,
в котором тоску наводит пейзаж в окне,
в котором ни слез, ни соли, ни моря нет. Пускай остов континента на букву “аз”
не сводит с меня лукавых косящих глаз.
Ему не узнать о тайной моей любви.
Забытые гены викингов спят в крови.
И северный остров, где никогда не быть,
которую ночь меня заставляет плыть
в былое, а может — в грядущее, курс — нордвест.
Где врыт в каменистую землю мой крест, мой крест... |