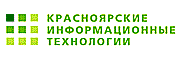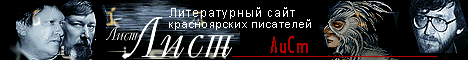| | - Вперед!... только вперед!...
Ужасно...................................................... Но главное не это - она шептала-стонала Ивану слова, каких ни одна женщина ему никогда не говорила, слова желанные, лестные, волшебные:
- Ты такой большой... я умираю!.. такой грандиозный... со мной такое впервые... ты такой могучий!.. Ты - Бог!.. ты не только гений, ты - мужчина-гений...
..........................................................
Иван сдался ей.
..........................................................
И далее несколько дней жил (отсыпался, отходил) у нее. Сталина каждое утро уезжала на работу, одевшись до пят в серое длинное платье и деланно нахмурясь. А вернувшись, еще с порога смеялась, как дитя, потрясая бутылкой шампанского:
- Ты ждал меня?!
Но однажды она сказала ему:
- Пора тебе и показаться на белом свете. А то ходят слухи, что пьешь где-то за городом с какой-то старой актрисой... - И пояснила. - Это мои девочки пустили такую дезу!
И Шубин поехал с ней на совещание в Дом художника. Сталина попросила его зайти в помещение через пять минут после нее. Он зашел через полчаса, все раздумывая возле дверей, не уехать ли сию минуту поездом домой, в Сибирь... на плацкартный билет, кажется, хватит... А картины - куда они денутся?.. Но его заметил у входа один из прославленных теперь участников ТОЙ выставки, лунноликий женоподобный Семен... Шубин никак не мог запомнить его фамилию:
- Скорее! Будет выступать Целищева!
Иван вспомнил, что это фамилия Сталины. Когда они зашли, маленькая Сталина уже стояла рядом с красной трибуной. Говорила она, конечно, как все чиновники, слова официальные, скучные, но губы ее при этом слегка улыбались, щечки смущенно алели (тогда еще не было модой сильно мазать румянами скулы), и многим в зале казалось, что она как бы в святом сговоре с ними. "Умница, ты говори, говори... - наверное, думали они. - Мы понимаем, ты обязана так трепаться, но ты поможешь нам, защитишь нас..." Разумеется, все понимали - Сталина мелкая сошка в окружении всесильного Гришина, тогдашнего секретаря ГК КПСС, но и она что-то может... Списки составляются внизу, а уточняются наверху. Один раз не пройдет фамилия Шубина, во второй раз, глядишь, и проскочит...
- Только ничего сейчас без моего ведома не предпринимай... О, какой ты огромный!.. - шептала ночью Сталина, виясь лозой вокруг опечаленного своим падением и всей этой мерзкой жизнью Ивана. - Дай слово - никаких выступлений!.. никаких, боже мой, интервью... даже в компаниях - молчи!..
"Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои..." - вспоминал Иван слова Тютчева и, не открывая глаз, кивал. И летел столбиком от стыда в бесконечный колодец, в пропасть. Женщина рядом с ним была горячая и гладкая, как целлулоидная кукла. И конечно, не шибко умная. В спальне у нее висели наивные подражания Сальводору Дали, этакие "сюрреалистические" перлы с грудями на телеграфных столбах и змеями в волосах, которые наверняка шокировали ее партийных сослуживцев... "Какая храбрая!" Хотя вряд ли они сюда допускались... Есть закон: блуди с чужими.
Забежав днем на ближайшую почту, с трудом видя авторучку в руке, Иван писал домой жене Марии, что задерживается в связи с возможной официальной выставкой... Но Сталина не торопилась. Вот уже месяц он болтался в столице, но ни в Москве, ни, тем более, в Берлине или Гаване его работы не были заявлены. Правда, неожиданно Шубину выделили мастерскую в Подмосковье, в зубчатом по архитектуре здании, на втором этаже, - огромную комнату со стеклянной стеной. Вокруг дома на белом, недавно выпавшем снегу стояли медноствольные сосны, как бы облепленные лауреатскими медалями... внизу, под холмом, текла незамерзшая, прозрачная, темная речка... Поработать бы, но как?! У Шубина - ни красок, ни холстов. Разумеется, мастерская была лишь удобным местом для встреч, чтобы сюда каждый вечер, в сумерках, как бы инкогнито, в темных очках, приезжала, лыбясь издалека, с зубами смуглыми от шоколада, в облаке сладких духов Сталина.
Начинались дивные позднеосенние вечера, с синими сумерками, с желтой листвой, кое-где задержавшейся на березах и дубах... с узким красным закатом, как с закушенными в страсти губами, где-то там, в толчее и смуте несущих снег небесных громадин... И снова лилось медовое вино, и трещала как молния разрываемая фольга конфет, и однажды Сталина, вдруг твердо глянув Ивану в глаза, заявила:
- Ты женишься на мне?.. - Это было уже чересчур. Иван медленно поднялся и уставился на ночной лес. - Не хочешь? Я тебе не подхожу? - Она обняла его сзади и сдавила ему ладонями пах. - Да мы с тобой созданы друг для друга! Тебе же хорошо со мной в постели? - Она попыталась его повернуть к себе. - Тебе плохо? - Все же повернула. - Скажи, так бывает у тебя с твоей женой? Или со мной лучше? Не красней, как красная девица... идем ко мне. Ну, идем же, бык! - Иван молча повиновался и лежал голый лицом вниз, и липкий запах французских духов, и коричневые пятна от шоколада, съедаемого в постели, окружали его. Эти коричневые пятна напоминали ему грязь, потому что в пылу страсти любовники обтирались простынями, как попало. - Я не красива для тебя? Вот посмотри на меня, как художник... не хороша?
Он с перекошенным от страданий лицом сопел в подушку и играл скулами. Что ей сказать?! Самое удивительное, что в минуты ночных безумств Сталина жарко нравилась ему, особенно когда шептала ему на ухо, какой он, Шубин, огромный... как все у него грандиозно... он прежде никогда не испытывал такой безоглядной увлеченности бесплодным процессом сжигания другого человека вместе с самим собой... Сталина возбуждалась от малейшего, даже случайного прикосновения. Иван, запаленно дыша, вспоминал сквозь очередную короткую дрему свою жену, бледную Машу, родившую ему двух дочерей... и сам перед собой стыдился, что вспоминает, как бы сравнивая, и успокаивал свою душу тем очевидным фактом, что любит Машу, нежную, тихую, верную... Но тут-то что делать? Как остановиться, укротить гнусную плоть?.. Он же так умрет. Сдохнет. Хватит. "Восстань, пророк... и виждь, и внемли..." И хлопни дверями.
- Хорошо, - сказала Сталина. Все-таки женщины чуткие твари. - Насильно мил не будешь. Поговорим о деле. Где твои картины?
- Картины? Которые картины?
- Ну, лучшие... - она смотрела, лежа, нагая, в потолок, на зеленую в темноте люстру и раздраженно играла пальчиками ног, как на пианино. - Которые вернули.
- У Лени Городецкого, в ИТФИ...
- Я знаю. Скажи ему, позвони прямо с утра, чтобы они там не слишком предлагали всяким заезжим буржуям. И чтобы за бугром пока не писали о тебе. Есть надежда, что выпустят... с небольшой выставкой... картин семь-восемь... Понял? Нет, ты понял?
- Понял... - пробормотал Иван. - Что ли правда? А когда?
- Когда... - Сталина вздохнула и, вдруг оскалясь, оседлала Ивана и, приблизя лицо близко-близко, смотрела, как полуслепая, ему куда-то в переносье. - Я тебя полюбила!.. Дурачок!.." Ког-да"... Всегда! - Иван тяжело соображал. Трудно было понять, вправду ли она знала, что холсты Шубина в институте у Ильи. Наверное, какие-то органы следят, сообщают? И не обманывала ли сейчас, что Иван поедет. Это же надо какие-то документы оформлять. Дело долгое, хлопотное. И словно читая его мысли, Сталина улыбнулась. - Дай моей Тане его телефон... и купи... купи нам завтра... - Она, как замечательная актриса, закатила паузу, наливая в полутьме комнаты вишневый ликер в бокалы, которые стояли на стуле, - купи нам завтра... билеты... нет, не в кино. До Сочи. Деньги у тебя на тумбочке, в конверте... потом расквитаемся... - И предупреждая любые возражения, капризным тоном. - Лучше на СВ, поездом... Ты устал. Я устала. Таня тут всё сделает. Зачем нам сидеть, ждать два недели? Мы пока съездим вместе на море... как бы в свадебное путешествие... И потом решишь... дальше нам быть вместе, или ты меня, как все мужчины, использовав, бросишь. - Она разрыдалась, как маленькая девочка, сидя на нем, и он, совершенно не представляя себе, как же быть, и почему-то вдруг жалея ее, принялся целовать...
...........................................................
Господи, прости меня.
... Проснувшись поздно утром ( Сталины уже не было!), Иван сдал ключи от мастерской, на автобусе поехал в город, вызвал из телефон-автомата на улицу подругу Сталины, улыбающуюся чиновницу Таню Фадееву, и написал ей координаты Лени. А вечером парочка уже катила в мягком вагоне на юг...
На столике лежал шоколад в коричневой обертке с золотыми буквами, в пузатой бутылке тускло мерцал черно-золотой коньяк... И снова была ночь. И шарящие по узкому купе прожектора станций.
Хоть на песчаном пляже юга было уже холодновато, но плотное, чистое, стекловидное тело моря восхитило Ивана. В обжигающей воде он как бы грехи свои смывал. Сталина не купалась, она сидела, кутаясь в кофту, и ждала, когда они пойдут в свой номер-люкс... Белые пароходы, поздний желтозолотой виноград, избыток увядающих цветов - все поначалу было сладостно после злой суетной Москвы. Но уже на третий-четвертый день Ивану стало тяжко от вечной его беды: он без Маши видит всю эту красоту, без Маши и своих маленьких деток ест эти овощи и фрукты... К тому же перед самым отъездом из Москвы Иван, как чуял, забежал на телеграф, К-9, и получил от жены письмо. Мария болела (но на работу ходила). В златоярских магазинах пусто. Старшенькая дочь отбивается от рук - врет на каждом шагу, рассказывает в школе политические анекдоты... это в девять-то лет! Младшенькая разбила стакан, хотела без мамы подобрать осколки, порезала пальцы... А он здесь, отец, спит-валяется с чужой женщиной до изнеможения и опустошенности, до омертвелости губ в постели, на которую изобретательная москвичка насыпала сладкие лепестки роз...
В минуту трезвости - где-нибудь в четыре часа утра - Ивану становилось страшно: чем же все это кончится? Впереди еще дней десять... Тайком от Сталины забежал на почту, дал в Москву телеграмму Лене Городецкому: "Телеграфируй от моего имени Маше: жив-здоров, но я у тебя на дачах института, показываю картины... Из-за колючей хвои не могу позвонить". Телефона в ту пору у Шубиных, понятно, еще не было, но телефон имелся у соседей, а также на работе в химлаборатории у Марии. Но соседи - люди угрюмые, неприязненные, муж работает в КГБ, а на работу к Маше если и дозвонишься через коммутатор - ничего не услышишь, гул, треск... "Колючую хвою" Иван вставил в телеграмму, имея в виду секретность. Сначала написал "из-за колючки", однако, раскрашенная как кукла женщина на почте отказалась принять текст. Но, как позже выяснилось, Леня все прекрасно понял и с "хвоей" и послал от имени друга из Москвы не одну, а две телеграммы, успокоил Марию. Да еще немного и денег ей перевел. Леня очень хороший человек. Жаль, он потом уедет работать в Америку...
Однажды Ивану приснилась его с Марией свадьба. Как их, совсем еще молоденьких, осеняла иконкой полуслепая бабушка Марии, а иконка плохо написана, с кривой и черной фигурой девы Марии... Мать Маши, Анна Ивановна, в ту пору еще партийная женщина, доярка с медалью, краснея, растерянно улыбалась и шептала старухе:
"Ну, мам, не надо... спасибо... не надо!.." Но сутулая, что колесо, почти невидящая старушонка, как заведенная шла-катилась с иконкой к жениху с невестой и крестила их, и бормотала невнятную молитву... в шерстяных носках, в галошах, в выцветшем, но чистом платьишке, обтянувшем старческий горб на спине... Отец Ивана, милиционер в этой же родной для Ивана и Марии деревне ( через год он умрет от язвы), пьяный, красный, как ныне сам Иван, с самого первого часа свадьбы зычно пел одну и ту же песню, забывая и снова возвращаясь к ней: "Когда б имел златые горы..." Иван увидел во сне свадьбу и проснулся в который раз мокрый, как рыбка, и решил про себя: как только вернется домой - напишет на белом, как утрений туман, холсте белую церковь... напишет белым по белому, наслаивая краску... почти, как барельеф... может быть, добавив искорку золота на кресте...
Юг есть юг, песчаный пляж раскалялся к обеду, как летом. Чтобы не идти со Сталиной в номер, Иван подолгу не вылезал из моря, и однажды его, пьяноватого, вялого, штормовая волна подхватила, как перышко, и, швырнув в коричневую пену, в буруны, протащила по дну, по галечнику так, что плавки сползли до колен... И смешно, и жутко! Нахлебавшись воды, он долго кашлял, сидя среди медуз, напяливая красную тряпочку. Руки-ноги тряслись. Зачем он столько пьет вина? А потому что не выдерживает ночных страстей, и Сталина дуется до утра: "Ты меня уже больше не любишь?.. Эй, сибирский медведь? Ваня!.." А если нахлестаться, в пьяном бреду, на пределе гаснущего сознания, как-то все получется лихо, и коротенькая, облитая французскими духами женщина, блаженно улыбаясь, вертится над ним, как пропеллер, и обцеловывает с головы до пят... Тоже интересно. Вот у камыша корни чем-то напоминают переплетенные человеческие тела... в детстве Иван с дружками пек их на углях костра и ел... Интересно, кто и на каком костре будет жарить, как корни камыша, Ивана и Сталину?.. Или нет бессмертия, даже мучительного, и все прекращается, как в часах, если их шмякнули об пол? Лучше уж так...
..........................................................
- Ты такой грандиозный!.. ты меня испепеляешь!.. такой большой!.. такой могучий... сладкий... ты - Бог, ты - царь мой!..
И нравились, нравилсь, нравились Ивану эти слова. Маша никогда... Маша только молчала... Забыть о ней пока, забыть.
..........................................................
Но все проходит. Миновал и их "свадебный" круиз. Они вернулись в Москву. Здесь было темно, валил мокрый снег, сверкали на перекрестках змейки гололеда, стыли битые машины в ожидании ГАИ. Но Шубина ждала и радость - Сталина позвонила на работу, и выяснилось - его картины уже в Будапеште, в Венгрии! И сам он приглашен лететь туда хоть завтра за счет принимающей стороны! Так впервые Иван Шубин попал за границу...
Хоть Венгрия и не капиталистическая страна, она уже тогда разительно отличалась от СССР, да и ГДР с Кубой ей в подметки не годились. А уж столица - Будапешт - как говорят знающие люди, не уступала своим блеском Парижу... В аэропорту, правда, скромном, маленьком, Ивана встретили на выходе возле таможенников три девушки-венгерки, поднявшие над головой картонки, на которых было написано синим и красным фломастером: "Шубин". "Shubin". "Иван". И повезли черноглазые красавицы молодого русского художника в роскошную гостиницу "Астория", и угостили там холодными невиданными напитками, и переглядываясь, ласково смеялись, щебетали на диковинном языке, который ни на какой другой не похож...
На этом же языке выходившие в Будапеште газеты хвалили картины Шубина. Одна из девушек - Илона - немного знавшая русский, переводила, от недостатка слов играя пальцами и хохоча над собой. Шубин в те годы был, конечно, дерзкий художник, краски не жалел, работал мгновенно, и были у него таинственные удачи, которые что-то изображали, чего не передашь словом - даже на волшебном венгерском языке... И надписи на русском были придуманы самим Шубиным очень кстати: "Не пугайся, это я", "Ё", "Розы, раны и ветер", "Луна-хулиган", "Приди ко мне босая", "9876432100000000" и т.д. Курчавые синеглазые венгры (хотя есть еще цыганский тип венгров, этих на выставке было меньше) толпились возле картин и с обожанием разглядывали синеглазого же, но краснолицего, как будто он кузнец или рабочий с медеплавильного завода, высокого, угрюмого от смущения Шубина. Разумеется, здесь уже знали об его участии в "пустырной" выставке, и о том, что знаменитые физики благоволят к нему, но, люди ревниво-самобытные, венгры должны были сами составить мнение... Иван получил в гостинице от устроителей выставки немного денег на карманные расходы, но ему было сказано, что он получит большие "форинты" дома, когда венгры оформят с Министерством культуры СССР договор на покупку-продажу его картин...
Переписка между Будапештом и Москвой шла долго. Иван давно уже вернулся домой, в Сибирь, и лишь под Новый год ему позвонили из Москвы, что он, если будет в столице, может зайти в бухгалтерию Министерства культуры. Оказывается, венгры запросили для своих коллекционеров из тех двенадцати холстов семь, да какой-то австралиец прямо с выставки забрал две картины, оставив солидную сумму в валюте... Честные венгры перевели и эти деньги Москве, и вернули "бесхозные" картины Шубина, оплатив транспортировку... И вот Иван, специально прилетев в белокаменную, получил в окошечке, напоминающем полумесяц, жалкие деньги. Он даже удивился - столь мало ему заплатили! Мечты о шубе для Марии рухнули. А еще Иван хотел накупить девочкам обнов и сладостей... Звезда поп-живописи лунноликий Семен с животом в три обхвата объяснил (встретился там же, у кассы), что процентов девяносто гонорара забирает государство... "Оно же заботится о нас!.. - хмыкнул Семен. И подмигнул. - В лице своих чиновниц". Ивану будто кипятком в лицо плеснули. Значит, коллеги знают. Семен даже не заметил, что обидел сибиряка, заговорил о себе: "А я вот совсем ни хрена не получил, потому что - Франция. Настоящую валюту родная партия всю забирает себе. Оставляет процента два, что ли... Надо же их детям на Канарские острова ездить, прыщи лечить... Ничего! Зато чужую жизнь посмотрел, верно?"
Посмотрел, но какой ценой! Тогда, после юга и после Венгрии, вернувшись домой, Иван в первую ночь опозорился в постели с милой Марией, которую любил до самозабвения... Жена тихо плакала ночью, но ей и в голову не пришло, почему это он так ослаб.
- Перелеты?.. - шептала она, гладя его лохматую голову. - С иностранцами пришлось много пить?.. Не досыпал?.. Труженик мой!..
Но когда и дома он стал чуть ли не с обеда заливать в желудок коньяк (говорят, помогает), и пошла носом кровь, и руки не унимались-дрожали, и всегда сдержанный Иван принялся сквернословить по любому поводу, даже стоя перед мольбертом, жена встревожилась всерьез:
- Да что с тобой? Может, в больницу ляжешь?.. - Она не произносила слова "алкоголизм", "лечение", но Иван понимал, что она имеет именно это в виду. А он пил от стыда, от тоски. Ему казалось - он грязен с головы до ног... Слава Богу, к весне Сталина, по слухам, влюбилась в молоденького еврея Тимкина, рисовавшего что-то вроде кинокадров на картоне, и загорелась тайной мечтою уехать с ним из СССР... Господи! Ей, коммунистке, надоело здесь? Дай ей Бог счастья. Конечно, получив "венгерские" деньги, Иван хотел ей позвонить, цветы какие-то, что ли, преподнести, но представив, что только этим не отделается, позвонил Лене Городецкому, вернул долг, а остальное пропил с ним в Доме кино, куда у Лени был пропуск академика Л. Ближе к лету Иван получил письмо: несколько его картин, отвергнутых в Златоярске , но принятых на зональную Новосибирскую выставку, министерство культуры решило везти вместе с картинами других русских "гениев" в Париж. И если товарищ Шубин хочет, он также может быть включен в делегацию. Но для этого необходимо срочно заполнить такие-то и такие-то документы... Он заполнил, отправил. Звонил. Отвечали: ждите. И вдруг Иван узнал, что его документы неожиданно "остановлены". Звонил в Союз художников, звонил толстому Семену... Наконец, выяснилось: еврей Тимкин со своей женой к этой поре выехал в Израиль, и выехал не просто - со скандалом, подключив мировую прессу... а не выпускала его, конечно, "шоколадница", нажимая на все необходимые рычаги. И документы Ивана Шубина теперь так же лежали мертвым грузом у ее друзей, в ЦК или КГБ, кто знает. А сама она, злясь на весь мир, разумеется, ждала, когда Шубин объявится с повинной... А Шубин взял да плюнул на Париж. И даже звонить более в Москву не стал. Бросил пить. Начал бродить с этюдником по тайге. За полмесяца написал пять или шесть очень сильных работ... Написал бы еще, но из Москвы уже летели телеграммы: "Во Франции успех. Франция ждет советского художника Шубина. В газетах "Юманите", "Пари матч" и других сообщали, что Шубин сидит в лагере... По этой причине необходимо срочно развеять клеветнические измышления западных шелкоперов и лететь."
Из чувства противления Иван за обедом горделиво сказал жене:
- Не поеду, ну их!..
- Да ты чё?!. - ахнула жена. - Ты же мечтал!.. Лувр... Мон-мартр!.. Съезди, Ваня. И тут будут лучше относиться.
Но он уже сам понимал: поедет. И полетел Иван в Москву. И оттуда во Францию. А в самолете рядом - Сталина... Улыбается, как шаловливая девчонка, десны кажет. Господи ты боже мой!.. И снова началось, как-то через нехотя... Вино, шоколад, бессонные ночи... Номера их в гостинице были, конечно, дверь в дверь. Женщина будто с ума сошла, часами длились допросы в постели, полные ревности и почти ненависти... она рыдала... он пил стаканами коньяк... и опять, обнявшись, они мирились, соединяли свои плоти и блаженно истлевали... Иван даже толком не разглядел Парижа. Правда, в окне торчала Железная Дама... так французы называют Эйфелеву башню. Всего на час, кажется, Сталина отпустила Ивана на выставку, автографы раздать и договор подписать под будущую персональную экспозицию из двадцати картин. Впрочем, до сих пор длившаяся выставка советских авангардистов имела средний успех, и это обрадовало Ивана. Слишком много "обструкцинистов", видимо, заявило к этому времени о себе в галереях Запада... "Игрушки приедаются", - понял Иван. Его самого, реалиста ( хоть и со странностями), давно тянуло к суровому, как топор, письму. Надо будет дома пописать сибирские скиты. Может быть, замахнуться на портрет протопопа Аввакума в волчьей яме?.. Он лежал посреди Франции, положив голову на упругие, как воздушные шарики, груди Сталины и пил тошнотворный, как духи, ликер - теперь она любила ликеры - и не откликался на ее ищущие губы, ищущие руки. "Хватит. Это уже мерзко. Пора прощаться".
- Но ведь я, я тебя создала!.. - словно услышав его мысли, вскакивала и стенала маленькая женщина. - Я тебя открыла западу...
ты не можешь вот так... как бревно...
Он не знал, как ей объяснить.
- Ну, хочешь, половину гонорара буду отдавать тебе? Хочешь, вообще больше не поеду за границу? - В самом деле, что ему делать за границей без Маши?! - Но я не могу без свободы!
- А разве я против твоей свободы?! Переезжай в Москву, живи у меня... Хочешь, у нас будет дача?
Он молчал. И Сталина, видимо, поняла - это конец. Хоть они еще спали до отлета ночь вместе, но, когда вернулись в Москву, расставание в аэропорту получилось неприязненно-холодным.
- Пока...
Иван прилетел домой. Мария не могла нарадоваться - муж работал с утра до вечера, поставив мольберт у окна в их второй, маленькой комнатке. Старшая дочь вдруг села, как паинька, читать многотомную "Историю Государства Российского" Н.М.Карамзина - Иван купил на барахолке старинное издание. Младшая дочь терпеливо тренькала на пианино. В дом пришел мир. Ненавистная Москва забывалась... Но теперь она сама напоминала о себе: Шубину несли телеграммы, письма... разыскивая Шубина, звонили в местное отделение СХ, в крайком - попал Шубин в "обойму". Его пригласили в начале лета в "демократический" Берлин (он не поехал), позвали на какую-то халяву в Монголию (не поехал), а вот на Остров свободы полетел... Все же хотелось глянуть - что это за страна Куба. Зря, что ли, там Хэмингуэй жил последние годы. Может, воздух особенный, краски иначе смотрятся?..
И вот под Гаваной, на крахмальном берегу неправдоподобно синего и горячего моря, в ресторанчике, под белым зонтиком он увидел... успокойся, Шубин!.. Сталину. Она сидела, смуглая, в короткой голубой юбочке, дерзко выставив кривоватые ножки, и смеялась, по-детски раззявив рот, а напротив кивал, моргая, рыжий бородач, похожий на маленького Хэмингуэя, они пили, глядя в глаза друг другу, и целовались. Ивана передернула - и здесь, за тысячи километров от Родины... Художника этого он также знал - кажется, из Харькова или Киева... Хотел отвернуться, но женщина его уже узрела и, этак мило зевнув, махнула коротенькой ручкой с перламутровыми ноготками, острыми, как школьные перья:
- А вот еще... из СССР. Вас, кажется, Владимир зовут? Или Иван? Знакомьтесь. - Она повела ласковыми глазами в сторону бородача. - Оска'р. Пока еще не О'скар. Н-но...
Мужчины пожали друг другу руки, и Шубин заспешил прочь...
Больше Сталину он нигде не встречал. Да и за границу не ездил. Когда пришло из Парижа приглашение на персональную выставку, он прокричал в телефон "кэгэбешнице" Союза художников в Москве, что хочет взять с собой жену и детей. Ему отказали. И он не поехал. Выставка прошла без него, присутствовал кто-то из секретарей СХ, культурный атташе СССР, прислали несколько газет с хвалебными рецензиями, причем в одной, как перевела жена со словарем, недоумевали, почему Шубин не прилетел... неужели, правда, режим запрятал художника в психиатрическую лечебницу под названием Тинская недалеко от колонии Решоты? На Ивана топал ногами, чтобы он немедленно летел "у Парыыж", местный идеологический начальник из крайкома, горластый мудак с бровями, очень похожий на Брежнева... Но времена уже менялись... умирал один генсек за другим, и как-то ловко пришел к власти Горбачев - и в воздухе заблистала надежда... К этому времени Иван окончательно вернулся к реалистическому письму, даже с некоей демонстрацией классической "гладкой" школы. И не потому, что нынче бояться стало нечего, а потому, что время зашифрованных кукишей в кармане себя изжило... Однако вся нелепость была в том, что именно теперь (коли всё разрешено!) в Россию закатилась мода: абстракционизм в чистом виде, в лучшем случае - поп-арт: багеты из колючей проволоки... окурки вместо глаз... На стенах выставочных залов засверкали страшные челюсти в цветочных венках, желтые шары и линии, напоминающие извивы тела... И картины именно такие - ни о чем - покупали теперешние молодые богачи с толстыми шеями, вчерашние комсомольские лидеры, меряясь взглядами с иностранцами, которых, наконец, пустили в Златоярск (иностранцы-то брали именно ТАКИЕ поделки!)... Рисовать чушь собачью и продавать за доллары?.. Но, как-то оставшись совсем без денег, Иван за ночь произвел на холсте портрет потасканной скуластой женщины с тенью былой красоты... в короткой джинсовой юбке... Название: "Дактилоскопия Надежды". Суть в том, что художник работал пальцами, оставляя оттиски - красные, черные, желтые... кончиками своих пальцев... Некий американец ошалел, увидев сие творение, а узнав, что автор - ТОТ САМЫЙ Шубин, заплатил девятьсот долларов - по нынешним временам деньги огромные... Но все время заниматься подобной пачкотней стыдно. Не в этом призвание русского живописца. Однако почему же никто, даже музеи не берут поздних работ Шубина, его кричащих реалистических полотен: "Аввакум", "Белая боль" (охотник в белом полушубке и белый медведь умирают друг против друга на снегу),"Видение в скиту"?.. Иностранцы, топчась перед холстами, не верили, что это - тот самый Шубин, автор "Ё" и других странных произведений, а наши щерились: "Зачем нам твоя правда? Мы ее и так знаем!.."
Но вот совсем недавно к Ивану в мастерскую (ему дали-таки мастерскую, в дальнем районе, под трубой алюминиевого завода, где от фтора трескаются стекла и осыпаются, как гнилые соты...) забрел полупьяный московский журналист, когда-то писавший о "пустырной" выставке, Алик Мазаев. Увидев гневные и почти примитивные картины Ивана, он опешил:
- Милый!.. да ты - титан!.. - Он выражался только такими высокопарными словами. - Микельанджело!.. Как выписаны эти лица!.. Рембрандт и Рафаэль!.. Ваг Гог и Репин!.. Как ты все это
соединил?! - Он считал, что разбирается в живописи. - Офанареть!.. Немедленно в Москву! Там мы найдем умных американцев... Тебе надо с выставкой на Запад, слышишь? В Париж! Ты станешь миллионером!..
Иван мыл кисти и даже не оглядывался на гостя.
- Успокойся... Туда ехать - нужны спонсоры...
- Спонсоры, фуенсоры... Я помогу! Я найду деньги! Ты гений, - вопил, роняя очки, Алик Мазаев. Надевал их и снова бегал по мастерской, разглядывая холсты и картоны. Конечно же, этот человек ничем помочь не мог. Даже если напишет в газете... Что значит мнение его газеты, когда этих газет развелось миллионы?..
И все же Иван полетел в Москву. Все же там его, в Союзе художников, должны помнить. Ни красок в мастерской у него не осталось, ни хороших колонковых кистей - стерлись... И никуда его больше не приглашали. Говорят, уже и КГБ нет, и заграничный паспорт получить проще простого... Почему же молчит заграница? Венгры в свое время обещали: "Ви у нас будете лубимый всегда мастэр". В Союзе художников сидели какие-то жирные золотозубые парни, то ли грузины, то ли евреи. И судя по всему, никакого отношения к искусству не имели. В коридоре смутно-знакомая, постаревшая буфетчица продавала конфеты и импортную водку в огромных бутылках. Телефон лунноликого Семена молчал. Телефон Лени Городецкого молчал. Только позже Иван узнает, что навсегда уехал Леня... Академик Л. умер. Знакомый артист Ленкома давно переехал на новую квартиру, а номер телефона хозяева старой квартиры отказались назвать. Скривясь от тоски, Иван вспомнил про подвал на Сретенке - добрел и увидел: мяукает китайской музыкой ресторан с красными фонарями... А тут еще в троллейбусе выкрали бумажник с деньгами...
И вот он, пятидесятилетний Иван Шубин, злой, уже не красный лицом, а коричневый, черный, издерганный заботами, а главное - не понимающий, как жить дальше (неужто реалистическое искусство более никому не нужно?..), стоял на незнакомой лестничной площадке пропахшего кошками подъезда и смотрел на очередную золотую дощечку, которая указывала: вверх. Там некая Алена, которая может помочь. Такая же, как Сталина, только из демократок. "Да что она может придумать? Государство наплевало на духовность, на искусство... Рынок. Разве что есть знакомые иностранцы? Надо было хоть шоколадку купить". Махнув рукой, сгорая всем нутром от стыда и почему-то все более озлобляясь, Иван затопал по лестницам выше.
После того, как они расстались, Сталина все же звонила пару раз в Златоярск (откуда-то узнала номер недавно поставленного телефона). Иван глухим голосом ответил ей, что ему некогда говорить, у него гости. И почему-то спросил:
- Как Оскар? - намекая, что не он, а она изменила.
- Ося в Нью-Йорке, - тихо, с горечью ответила Сталина. - Но я же не могу?.. Я, так сказать, член партии... у меня мама больна... я Россию люблю, - добавила она и долго держала трубку возле уха, надеясь, что Иван ей что-то ответит. Он оскалил желтые зубы и положил трубку - ему показалось, что на него снова дохнуло французскими духами, подмышечным теплом, жарким запахом шоколада, расплавившегося в руках...
- С кем это ты? - спросила милая жена.
- Да москвичи!.. - буркнул Иван. И вдруг, тяжело багровея, подумал: "А ведь вполне возможно, что Сталина бедствует сейчас". И ему захотелось ей помочь - все-таки она ему в свое время помогла. Надо было хоть раз ему самому позвонить. Оказывается, у нее есть мать. Наверное, в другой какой-то квартире живет. Мол, как вы?.. На "вы", но позвонить. Домашний телефон Сталины у него где-то был... "А, черт с ней! Прилипалы! Они за счет нас существовали, вся эта партия, все эти министерства, чиновники, цензура... Сжечь их всех! И смести веником. Мы квиты! Квиты!.."
На двери сверкала такая же, как и внизу, золотая дощечка с выпуклыми буквами: "СП ХУДЭКС", и более никакой стрелки, указующей вверх, не было. Значит, это здесь. Шубин вскинул голову - верно, выше только чердак. Шубин постучался - не громко, но и не тихо. Кулаком. Не помогут? Ну и идите дальше в рынок!..
- Да-а?.. - как бы удивленно пропел мелодичный голос, и художник вошел. Он увидел большую светлую комнату, почти зал, перегороженный ширмами из стекла и металла. Ближе всех, за экраном компьютера и клавишами, сидела, улыбаясь, женщина в синем строгом костюме с белой блузкой до подбородка, на шее сверкали синие бусы, на ушах висели синие - такие бирюзовые - клипсы, на запястье левой руки покоился тяжелый синий браслет. - Вам кого? - Она раздвинула смешно шубы, обнажив десны, - и Иван с изумлением и откуда-то свалившимся страхом узнал Сталину. Она, конечно, изменилась, но не слишком.
- Мне... - Иван, нахмурясь, опустил, как бык, голову, чтобы женщина его не узнала и чтобы скорей уйти. - Так... Алену...
- Алена - это я, - ответила Сталина. - И разве мы не знакомы? - Не претендуя на близость, она говорила спокойно и достаточно громко, чтобы их могли слышать за ближайшей отгородкой, где трещал телефон и попискивали компьютеры. - А может быть, я ошибаюсь. Художник Шубин?
- Да, - пробормотал Иван. Глаза ничего не видели. Наступила пауза. "Сейчас начнет мстить. Укорять. Беги скорей!" Но будто ноги отказали у Ивана... Устал, видимо. К счастью, Алена-Сталина была все же, видимо, не глупа, да и в личной жизни у нее произошли изменения. На безымянном пальце правой руки мерцало золотое дутое колечко. "Слава Богу... Но как же она?... работник горкома КПСС - и здесь, в совместном предприятии? С выходом на заграницу? Сейчас же время демократов?.."
- Присядьте, - Сталина кивнула на кожаное кресло и закурила.
- У вас проблемы? - спросила она, применяя модное ныне слово "проблемы".
- Да нет, - уже сердился и шумно сопел Иван. - Я случайно встретил Леву... ну, из Питера...
- Ага, - продолжала вышколенно улыбаться, не моргнув глазом, Алена. - Хороший, ищущий художник.
- Ну он и затолкал меня в подъезд, - Иван соврал и застеснялся, как школьник. - Я, пожалуй, пойду. Если бы с ним не вмазали по стакану... Так как-то согласился... Мне ничего не надо.
Алена вдруг посмурнела, отвернулась к окну и долго туда смотрела. И тихо спросила:
- Вы за что-то на москвичей обижаетесь? - И не дождавшись ответа. - Вы попрежнему в Сибири?
- Да, - ответил Иван, все еще стоя возле двери. От женщины пахло иными, более тонкими духами. Сталина-Алена похудела, она, конечно, постарела, но то, что она была худее, чем раньше, делало милым ее лицо. С ее-то страстями наверняка переживала, болела... "Но, слава Богу, что замужем".
- У вас есть с собой какие-нибудь слайды? Или каталоги?
- Ну... - он замялся, не решаясь раскрыть кейс. - Кое-какие имеются. Если просто так... посмотреть...
- Давай, - она дружелюбно и деловито повернулась к нему. - Давайте. Вместе глянем.
Иван раскрыл "дипломат", достал конверт с двумя десятками слайдов, снятых местным фотографом-немцем на пленке "кодак" за большие, конечно, деньги. Положив конверт на стол, Иван вынул оба каталога - черно-белый и цветной.
Алена, надев очки, минут десять, а то и больше внимательно разглядывала напросвет слайды и медленно, аккуратно пролистав каталоги, спросила - и впервые ее голос дрогнул:
- А что?.. интересных... поисковых работ больше нет?
Шубин решительно мотнул головой.
- Я вернулся к реализму. Все это туфта... - Он изобразил пальцем в воздухе некие странные фигуры. - Годится, как школа, но не более.
- И Малевич туфта? - без улыбки спросила Алена.
- И Малевич туфта. Во всяком случае, его черный квадрат. Она, казалось, с каким-то сожалением разглядывает исхудавшего мужчину, который был когда-то ней близок, а сейчас нетерпеливо переминался на ногах, не утеряв еще, видимо, гордой своей души, но потрепанный жизнью, в алых пятнах раздражения от электробритвы, в старомодном севшем костюме, готовый собрать свои слайды и уйти прочь.
- С реалистами на Западе, как всегда, сложно, это на любителя, - сказала Алена. - Все же там любят квадраты. Вы же видите, кого они приветили? Если вы напишите что-нибудь такое, я бы помогла. Вы же так хорошо начинали!
Иван молчал. Мысленно он усмехнулся. Как меняется время! Тогда, на юге, ночами, сладкими из-за цветов и шоколада, Сталина шептала ему между поцелуями: "Поклянись, что вернешься к реализму! И я слово даю - ты станешь лауреатом... если не Ленинской, то Комсомола... Мы же в СССР живем! А имя у тебя уже есть!.."
Реализм реализму рознь. В те годы быть настоящим реалистом было куда опасней, чем "обструкцинистом", с обломками ощущений на холсте, с намеками и иносказаниями. Иван, впрочем, ничего никогда не боялся, но "реалистические" полотна начальников от искусства отвратили народ от картинных галерей, да и, казалось, отравили сам воздух искусства в стране. Краски лауреатов были убоги, рисунки плакатны. Хотелось хулиганить - в цвете, в смешении фантастического и реального... Но сегодня, когда Россия, мечтавшая о свободе и дождавшаяся ее, больна, как бывает болен человек, отравившийся избытком кислорода, нельзя продолжать эти игры, эти квадраты. России нужна надежда, а надежду дает правда.
Западу Шубин не нужен. А в России нет денег. Не рисовать же специально для Запада всякую чушь, только чтобы туда попасть! Жизнь уходит.
- Но для жизни как раз и надо... - как бы угадав его мысли, Алена улыбнулась чуть более интимно. А может быть, Шубин вслух сказал "жизнь проходит"? - Иногда... чуть... Ваш талант не убудет. А у них денег много. Наша фирма берет всего тридцать процентов от договора... это не девяносто, как было у Министерства культуры...
- Нет, - хрипло отрезал Иван и, склонившись, стал собирать слайды, проспекты. Очень сильно пахло от нее духами, но все же духами более тонкими, холодными. И ногти стали более округлыми. Защелкнул кейс и повторил. - Нет.
- Погодите, - как-то гортанно вдруг сказала Сталина и поднялась. Ивану показалось, что она стала еще ниже ростом. И лишь когда женщина вышла из-за стола, Иван увидел - она в туфлях без каблуков. Что ж, понятно, возраст, ноги устают. - Таня?.. - позвала Сталина-Алена.
Из-за стеклянной отгородки выглянула старая знакомая Ивана, Таня Фадеева. Она вопросительно смотрела на начальницу.
- Мы пройдемся. Если позвонят французы, я через двадцать-тридцать минут. А если арабы, пусть подождут.
Только теперь Таня перевела взгляд и на гостя. Иван растерянно насупился и, быстро кивнув, отвернулся к двери. Кажется, Таня его не узнала. Столько лет прошло. Они с Аленой по каменной вонючей лестнице спустились во двор, прошли мимо синих и черных мерседесов, похожих на гигантские немного сдавленные сливы, и оказались на Тверской.
Сталина, остановившись, смотрела куда-то в сторону Кремля, на рубиновые звезды, на красную стену, как бы на прошлую жизнь.
- Ты не вспоминал меня? - спросила она впервые на "ты", не оглядываясь. - Совсем?
Иван молчал.
- А знаешь, а я поверила, что у нас была любовь... Настоящая... Помнишь, пес какой-то к нам прибился, когда мы на скамейке ночью возле моря пили шампанское... он был хромой и печальный, и ты прозвал его Байроном, от его имени прочитал мне стихи... Скажи! - вдруг обернувшись, она цепко схватила Ивана за руки и снова шальными, как прежде, глазами впилась в его лицо. - Это не была любовь?! Или только для дела?.. Любовь?! Скажи, я не обижусь... сейчас такие времена, скажи, как есть.
И черт его знает, почему, Иван Шубин ответил неправдой... то ли пожалел стареющую женщину, а то ли ему сейчас показалось: было же там, было что-то дивное, у живого стеклянного моря, и пес был, и звезды сыпались, и выл далеко на мысу маяк... И задыхающийся шепот ее:
- Ты такой огромный... я умираю... - И что-то сладкое зажглось в глубине его тела, и Шубин буркнул:
- Мы... любили друг друга.
- Пасибо, - по-московски пропуская "с", ответила Сталина и невесело рассмеялась. И снова Иван увидел, как нелепо-бесформенны у нее при смехе губы, и видны розовые десны... Алена, разумеется, знала свой "порок" и тут же погасила улыбку. Она сильно изменила свою внешность. И дело не только в хорошей заграничной одежде. Она стала ходить медленней, говорить медленней, и щербатые два зуба, делавшие ее улыбку по-детски наивной, были заменены на прекрасные, очевидно, американские фарфоровые зубы. Наверное, и деньги имеются, и муж не какой-нибудь запойный, тоскующий о чем-то непонятном русский художник. "Но как же так?.. Как же вы попали из горкомов и министерств в новые структуры? - хотел было спросить Иван. - Откуда у вас возможности - уже в новые времена - отправлять людей искусства в Париж или к арабам? Кто вас поддержал, кто не дал вам утонуть? Значит, и более высокие по своим должностям прежние люди у власти? Может быть, в тени, но остались в силе?.."
- Я бы сейчас тебе помогла, - Светлана будто подслушала мысли Ивана. - Если только за неделю-две... краски я тебе найду...
Иван отрицательно затряс головой.
- Я пошел.
- Погоди!.. - вдруг решилась Алена. - Есть у нас - правда, их мало, - коллекционеры реалистического письма... Один американец, Джим... один испанец... и наш, русский миллионер, Гриша должен вернуться из Бельгии... Я им покажу. Отдашь слайды на пару дней? Не потеряю. Ты где остановился? - Она говорила абсолютно деловито, не навязываясь с любовью, и Иван ответил:
- В гостинице "Урал". Ну, это...
- Знаю, - она приняла из рук Ивана конверт с фотопленкой. - Прости, каталоги твои лучше не показывать... уважать не будут. - И потянувшись к нему - Иван даже отступить не успел - поцеловала в губы. И снова на него дохнуло теплой малиной этих губ, и сверкнули, как молния, в памяти те бесстыдные, сладострастные ночи, доводившие их до беспамятства и онемения губ и ног...
Он плелся по вечерней Москве, хмуря лоб и пытаясь убедить себя, что не продался, он же остается реалистом, наверняка у нее ничего не получится. Но Сталина-Алена, видимо, очень постаралась. И уже утром в гостинице звонил телефон:
- Можно господина Шубина? - голос был нежный, певучий. Это была Алена. Кстати, почему она стала Аленой? Надо бы спросить.
- Слушаю, Алена.
- Где сейчас ваши картины? Которые сняты на этих слайдах?
- Как где? Дома.
- Можете привезти в Москву? Немедленно?
"А не напрасны ли хлопоты? Она уверена? Придется где-то срочно занять денег, - медлил с ответом Иван. - Может, попробовать в "Сибавиалиниях" договориться?"- В молодые годы Шубин сделал замечательный портрет летчика Саши Орлова, который ныне стал заместителем генерального директора АО "Сибавиалинии". Вдруг распорядится бесплатно перебросить? Он сам говорил, иной раз самолеты летят порожняком...
- Попробую.
- Чем быстрее, чем лучше, - сказала Алена и добавила. - И сразу вези ко мне... Я не кусаюсь... Целую. - И не дождавшись от
Ивана никаких слов, повесила трубку.
Через три дня взмокший от хлопот Иван был снова в Москве, в аэропорту Домодедово, уговорил водителя некоего огромного автобуса помочь, и таким образом холсты и картоны Шубина, замотанные в газеты и прочую бросовую бумагу, были привезены в узкий грязный переулок, где на одном из зданий сверкает заветная золотая дощечка с выпуклыми буквами: "СП ХУДЭКС". Только взбежал наверх - Алена запрыгала, засияла, и мгновенно нашлись какие-то парни в черных очках, синих спецовках, которые и перетащили махом груз в одну из пустых комнат на том же этаже, что и "СП ХУДЭКС".
- Дальше не твоя забота, - прошептала Алена, затягивая Ивана за руку к себе в офис. - Зал мы нашли. Развесят. Люди придут, посмотрят. Купят. А может, и спонсируют выставку в Париже. Хотя это твердо не обещаю. Но долларов по пятьсот за каждый холст обещаю. Шубин есть Шубин. Страна помнит своих героев!
Ивану стало жарко, он глупо улыбался.
- А если Гришка-миллионер не обманет, будет тебе набор голландских кистей и лучших красок мира... Только, чтобы все получилось, как надо, теперь необходимо стрельнуть шампанским. Традиция.
- Я сейчас... - заозирался Шубин, готовый бежать в магазин, у него оставались небольшие заемные деньги - НЗ, на обратный билет, но Сталина небрежно махнула рукой - и ее подруга Таня Фадеева уже накрывала в отдельной зале, где все - стены, кресла, потолок - было обтянуто золотистой кожей, играла тихая музыка (Моцарт) и воздух был свеж, как в лесу. На столике в вазах лежали разрезанные сочные гранаты и отдельно - большое пунцовое яблоко как бы в венке из черно-хрустального винограда.
- Разрежь!.. - Алена, кажется, волновалась.
Иван поднял тяжелый серебряный нож, подчинился. Сталина протянула к нему бокал с бесящимся на свету шампанским - Иван протянул свой. Вино было обжигающе сладким, и у голодного с прошлого вечера Ивана закружилась голова. Он допил и почему-то спросил:
- А зачем ты?.. была Сталина, а теперь...
- Меня звали кто Таля, кто Лина... А потом я подумала - пусть уж Алена. Я же русская! - Она как-то странно посмотрела на Ивана. - Мама меня так звала, до самой смерти.
- Так у тебя мама умерла?..
Сталина опустила голову, и Ивану стало жалко ее, с ее редкими кудряшками, алыми ушками, синими бусами на шее.
- Ты уже устроился в гостинице? - Неужели хочет домой затащить?.. - На всякий случай мы заказали "Россию".
- Спасибо. Я же прямо с аэропорта...
- И не устраивайся. Я тебе приготовила сюрприз. Сюрреалистический приз. - Голос у нее дрогнул, она заговорщецки оглянулась, открыла лежавшую на столике папку в коричневой коже с золотой эмблемой "ХУДЭКС" и достала два билета на поезд. И торопливо заговорила, чтобы он не передумал, не обидел ее злым отказом:
- Таня за всем приглядит. Ты вернешься через неделю, как победитель, пожинать плоды... - Она перешла почти на шопот, но не поднимала головы. - А мы повторим нашу поездку? Хочешь? Полмесяца, как раньше, позволить себе не могу, не те времена... Но семь дней? Хочешь? - Она, наконец, вскинула прыгающие глаза и с пугающей тоской посмотрела в лицо Ивану, как будто все эти годы без памяти любила его и ждала.
Он стоял черный от горя. "Опять все то же!.." Конечно, если бы он был трезвый, он бы отказался. А тут вдруг подумал, стиснув зубы и наливая себе еще шампанского: "Да ладно!.. чего уж теперь!.. Сидеть тут в Москве, ждать результатов?.." - и кивнул. И сладко пахнущая женщина в синем костюме, как молодящаяся стюардесса, повисла у него на груди. ("Ты такой огромный!..")
... Разумеется, они были уже не те любовники, что лет двадцать назад. Алена, как она призналась, перенесла операцию... у нее вырезали маленькую опухоль... она боялась, не повторится ли со временем эта беда... Сам Иван за последние месяцы ослаб от бесконечного курения, от еды всухомятку в мастерской, и поэтому был вынужден купить на первой же стоянке поезда две бутылки коньяку. Трясло даже в вагоне "СВ" - рельсы стали никуда. Иван с Аленой катили на юг, где нынче, говорят, постреливают, но правительство обещало в курортной зоне порядок.
На полустанках, где поезд притормаживал, но не останавливался, они видели замерших, как на фотографии, серых в пыли людей на арбах, в кузовах машин. Возле железной дороги толпились старики, дети с куклами, женщины с рюкзаками, торбами, чемоданами. Беженцы... На больших же станциях, где поезд стоял, по перрону фланировала милиция и было малолюдно. Поговаривали, что чеченцы обещают к вечеру взорвать вокзал, что вода в трубах, говорят, отравленная и пр.
Пансионат, который выбрала Алена, некогда принадлежал то ли Совмину, то ли ЦК, но там сейчас на каждом этаже висел портрет Ельцина, сверкали маслянистые афиши заезжающих кинодив в плавочках, было пустынно и жутковато. Алена сразу установила порядок:
- Купаемся - и лежим в номере... На солнце нам нельзя, мы уже люди немолодые... ну так, немножко... Вино в холодильнике, фрукты любые... смотрим телевизор.
Фраза насчет телевизора была, конечно, откровенной уловкой - если он и включался, то лишь для создания маскировочного фона - пусть играют, пусть болтают. Во время любовных утех Алена, как и в давние годы, стонала, хватаясь за горло, взвизгивала, шептала: "Вперед!..", заползая на Ивана, как на баррикады, и вдруг смотрела, приблизив лицо, тем самым ищущим, строгим взглядом куда-то в переносье Ивану, будто пыталась в душу проникнуть, что-то понять в нем...
"Но ведь точно так же она смотрела и стонала, валяясь по гостиничным номерам, со всеми своими любовниками, секретарями, заворгами и прочей шушерой, некогда командовавшей нами, - брезгливо начинал вдруг думать Иван, отодвигаясь под предлогом курения и разглядывая на шее Алены маленькие дряблые складочки, ромбиком, уже необратимые, и снова его раздражали розовые десны, когда она улыбалась, и снова до неприязни мутил нутро запах как бы тех же самых французских духов, без меры пролитых на тело, и дух разжевываемого шоколада, правда, ныне какой-то иной, кислый, будто исходивший от глины - шоколад-то импортный... - К черту, к черту тебя!.. Господи, зачем я, старый мудило, опять с тобой поехал?.. Что же, так всю жизнь и прожила, беря плату за свои услуги! А вдруг у тебя СПИД или еще что?.. - И тут же Иван успокаивал себя. - Ну уж этого-то наверняка она остерегается!"
Иван лежал, как бревно, уткнувшись носом в подушку, а она, как в прежние годы, капризно, будто ребенок, надув губки, ныла:
- Ты такой грандиозный!.. Ванечка, я тебе надоела?.. Ванечка.. Я тебе отдала самые юные годы... я же тогда... ты же у меня был второй... - И Бог знает какие еще глупости лепетала она. - Ты разлюбил меня, Ванечка?.. Ванечка?..
Жар ненависти охватывал Ивана, и он вскакивал, испытывая унижение из-за того, что голый идет под душ, и потом, обмотавшись полотенцем, картинно, как бы навсегда, садился в белое плетеное кресло перед телевизором. Она поднималась со всклокоченной прической, старая, бледная, уже красящая щеки и губы, с большими ступнями, и, также обмотанная простыней, стояла перед мужчиной, укоризненно глядя на него. И наливала ему коньяку, и подавала своими пальчиками с красными ноготками виноград, ягодку за ягодкой, и он снова, как строительный кран, скрипя, начинал двигаться, поднимался, шел с ней, и снова все повторялось... "Проститутка! Я сам, я проститутка!.." - думал о себе Иван, и сознание его от тоски и безвыходности меркло.
На третий день пребывания в пансионате он уже чувствовал себя совершенно опустошенным, как после страшной длительной болезни. Ночью ему стало плохо, сердце колотилось возле горла. Иван, ослабев разом, весь в зыбком поту, лежал и понимал: умирает. Алена, обиженно отвернувшись, спала или делала вид, что спит.
"Господи, - взмолился Иван. - Если ты есть, Господи!.. Если останусь жить, я брошу пить и завтра же уеду... К чертовой матери деньги, к черту славу!.. У нас с Марией есть шесть соток, младшая дочь помогает... Скоро дети старшей начнет помогать... как-нибудь проживем... Буду рисовать для души".
- Что с тобой? - недовольным голосом спросила Алена.
- Ничего, - и снова Иван Шубин обратился к невидимому богу: "Господи, прости мои грехи глупые... только оставь немного еще пожить..."
- Ты какой-то холодный?.. - прошептала, зевая, Алена и, приподнявшись, нагнулась над ним.
- Оставь меня!.. - вдруг хрипло закричал Иван. - Я... я загибаюсь!.. у меня... у меня... - Он сгреб пальцами грудь и терял сознание.
- Ванечка! Да ты что?.. Ванечка!.. Я сейчас... сейчас!.. - она как кошка бросилась к телефону, вызывать "скорую", а он сполз на пол, тут было прохладней. - Алло?.. Алло?.. - Телефон "Скорой помощи" этого приморского города не отвечал.
- Может, коньяку?.. - метнулась к распростертому Ивану Алена. - Хуже не будет! Говорят, инфарктникам даже дают...
Иван провел вялой рукой по горлу, давая понять, что не может его пить... коньяк и так уже спалил его внутренности...
- А вина? Холодного вина?..
"Все равно конец.. - кивнул Иван. - Господи".
Алена почему-то на коленях подползла к нему и, как маленькому соску, ткнула в губы ледяную бутылку.
- Пей!..
Что-то острое, жалящее вошло в глотку, и разошлось по телу, и дрожь, похожая на дрожь агонии, сотрясла всего Ивана, и он как бы после грозного сна проснулся. Ему стало лучше. "Допился. Доебался, - зло говорил он себе. - Идиот с блядью".
- Я утром уеду, - сказал он. - Извините... я больше не могу.
- Да, да, - все еще испуганно бормотала Алена. - Уедем. У меня тоже много дел... Выпейте еще.
И самое странное - на рассвете, от радости, что жив, Иван снова польстился на ее горячее тело, и они были счастливы - каждый от своего счастья, и Алена уговорила его задержаться еще на один день... Но когда они сели, наконец, в вагон "СВ", катящийся обратно из Сочи в Москву, они не разговаривали друг с другом.
Иван лежал на верхней полке, закрыв дергающиеся веки. Алена сразу же ушла в ресторан, где, наверное, хлестала керосиновый местный коньяк и ела шоколад, разговаривая с попутчиками. А что, когда одета, она выглядит неплохо. Худенькая дама средних лет с хорошей грудью, в серебре и жемчугах. По-европейски прижимает к боку сумочку с деньгами. Да, нужно будет немедленно, как только Иван получит деньги за свои картины, рассчитаться с ней. А если ничего не купили, в институте теорической физики остались друзья Лени. Через златоярских физиков пару раз передавали привет." У них займу..."
Он валялся, и чтобы больше не думать ни о чем мерзком, открыл рабочий альбом, который всегда возил с собой, и принялся карандашом рисовать всякую всячину: кипарисы... телеги с людьми... свое лицо, как в кадрах кино... через пять-шесть "кадров" превращающееся в лицо Марии... а там и в лицо младшей дочери Тани...
Но на юге темнеет быстро. Часов в десять, когда Иван уже недобро подумал: "Где она шляется? Еще вышвырнут из поезда, ограбят?..", поезд вдруг со страшным визгом приостановился, продернулся и встал, как мертвый, и вагон, в котором ехал Иван, начал как-то странно подниматься и валиться набок. "Вот!.. - только и успел подумать безо всякого страха Иван. - За мои грехи!.. с этой сучкой, с этой падлой... коммунисткой-демократкой..."
Свет в вагоне погас. За окном вагона, который медленно лез в небеса и кренился, было черно - хоть глаз выколи. Ивану показалось, что он слышит треск ломаемого железа и что-то вроде взрыва... вдали полыхнуло красным...
- Господи!.. - он вылетел с полки, но успел ухватиться за матрас, слетел вместе с ним, больно ударившись головой о какой -то металлический рычаг, сполз в угол. Вскочил как пружина на косом полу, стал искать ботинки - не нашел, ударил босой ногой по стеклу окна - не разбил... Оранжевый отсвет вдоль поезда приближался.
- Господи!.. - уже плача от ужаса, он начал шарить по окну руками и - диковинное дело - стекло как-то легко отъехало в сторону, в лицо пахнуло ледяным ветром, в уши бросились крики, скрежет стали, выстрелы...
Иван просунул ноги в окно и, не глядя, куда падает, оттолкнулся от рамы.
Он упал на рельс. Наверное, размозжил себе колено, но тут же вскочил и, прихрамывая, бросился прочь от поезда в поле. Оглянулся - поезд горел. Вагон, из которого он выскочил, оторвался от соседнего и на глазах рухнул, смялся, как игрушечный, из мягкой жести.
- Диверсия!.. - кричали вокруг. - А-а, где Нателла?.. Абрам, Абрам!.. Это бомба, бомба!..
Иван не различал в кромешной ночи лица, но силуэты людские видел - вокруг бегал немногочисленный народ, всматриваясь друг в друга и вопя, и шарахаясь друг от друга, боясь, не грабитель ли... Тучи разорвало и выскочила в небесах полная бледножелтая луна.
И перед Иваном предстала страшная картина - поезд, искореженный, перекрученный, как гармошка, лежал на боку, а там, в голове поезда, где он стукнулся с чем-то или мина взорвалась, гудело пламя пожара . Скорее всего, поезд ударился в цистерну с горючим.
- Хлор, хлор!.. - почему-то кричали вокруг. Этого еще не хватало.
Толпа сливалась и распадалась, кружила возле поезда в чистом поле, слышались рыдания. И тут Иван вспомнил про Алену. Где эта женщина? Ресторан обычно в восьмом или девятом вагоне. Приволакивая ногу, Иван побежал - или бесплотной тенью полетел вдоль поезда... - да, вот... вот... буквы "Рес... ресто..." Из черных окон, зиявших остроугольными краями выбитого стекла, вытаскивали стонущих людей. Иван машинально помог отволочь в сторону какого-то военного, то ли мертвого, то ли напившегося до беспамятства... Но нигде не было видно Сталины-Алены.
"Неужели всмятку?.. - подумал Шубин и подтянулся за край рамы вагона-ресторана, кажется, порезав себе руку. - Бедная, несчастная баба!.." Ему стало жаль ее. Одинокий человек. Если, не приведи судьба, погибла... ее и похоронить некому, кроме Ивана. Где же, где она?! В вагоне никого не было. Валялись стулья, катались пустые бутылки.
Иван побежал вдоль поезда, вернулся. И вдруг увидел ее. Сталина стояла совсем рядом, плечи ее тряслись. Ее успокаивал,
поглаживая по голове, грузный мужчина с чемоданом.
- Ну, ну... видите, как повезло...
- Алена!.. - прохрипел Иван. Ему неожиданно показалось, что вот эта маленькая женщина в тревожной ночи - самая ему родная, самая близкая на земле, свидетельница его падений, уступок и, тем не менее, всегда любившая и любящая его. "Женщины все-таки более благодарный народ, чем мы!.." - подумал Иван со стыдом в сердце, приближаясь к Алене, которая, обернувшись, испуганными глазами смотрела на него.
- Иван!.. - зарыдала она и забилась в его объятиях. - Миленький!..
- Алена!.. А я испугался...
- Ванечка!.. любимый!..
Они отошли за какие-то заросли... здесь, кажется, рос виноградник... Упали на землю... Обнимались, целовались... Трезвые, грязные при свете утра, страшные.
- Прости меня, - сказал Иван. Почему ему хотелось испросить у нее прощения, он и сам не знал.
- И ты прости, - закрыв лицо руками, прошептала Сталина-Алена...
Наконец, появились войска, тягачи, огромные краны на платформах. Стали разбирать состав. Пассажирам предложили пройти пешком до полустанка "Красный путь", где их ждал дополнительный поезд, на котором все спокойно доедут до Москвы.
В поезде все пили водку, плакали, обнимались с совершенно незнакомыми людьми. Тут же, рядом на полках, везли несколько трупов. Алена уснула. Иван, серый от бессонницы и усталости, сидел у пыльного окна и думал, как скоро он вернется домой, к семье... февраль 2002 г Опубликовано впервые |